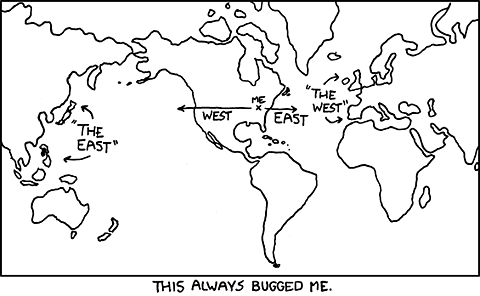Вообще с одной стороны может сложиться ощущение, что автор пишет сплошные банальности и оперирует общими местами, но стоит попытаться приложить его слова к какой-нибудь вполне реальной битве - и тут же выясняется, что он, разумеется, был прав. И плохи те полководцы, которые эти банальности бы не учитывали, от лени или от горячности. "He will win who knows then to fight and when not to fight" - принцип точно так же прекрасно действует в китайских войнах 6 века до нашей эры, как и в нашей мирной жизни.
А еще меня периодически постигало забавное чувство дежа вю, потому что вся философия войны, которой пронизан цикл про Эндера любимого мной Карда - вот она, отсюда. И по содержанию, и даже по формулировкам. Некий общий строгий, отстраненный дух, парящий над полем битвы, не принимая никакие ее повороты близко к сердцу. В этом весь Сунь Цзы, собственно: он очень сдержан и очень обще выражается, но при этом не говорит ничего, что нельзя было бы применить непосредственно; все его общие фразы, как ни забавно - самый что ни на есть акт прямого действия. "Place your army in deadly peril, and it will survive plunge it into desperate strairts, and it will come off in safely".
Наверняка в 6 веке до нашей эры (или в 4) этот текст писался с исключительно практической целью, а именно - той, которая вынесена в заглавие. Но, как случается с такими хорошими текстами, он уже давно утратил свою узкую направленность. Не то чтобы по Сунь Цзы было хорошо гадать - однако сказанное им об одной стороне жизни прекрасно применимо и ко всем остальным. В этом плане древнекитайские мудрости вполне действенны и сейчас, и для других целей. "There are roads which must not be followed, armies which must not be attacjed, towns which must not be besieged, positions which must not be contested, commands of the sovereign which must not be obeyed".