 Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.
Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.
воскресенье, 26 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис
 Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.
Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.Шпенглер & Инститорис

"Здесь живут бывшие олигархи. Много лет назад они открыли свой бизнес, а налоги не платили. Им кто-то сказал, что платить нужно только взятки. А на самом деле платить надо и взятки, и налоги, а кроме всего прочего, налоги со взяток и взятки налоговой. И когда с них потребовали недоимки за последние тридцать лет и три года, они не придумали ничего умнее и спрятались здесь. Есть мнение: если пообещать им налоговую амнистию, они согласятся помочь…"
ВК в переводе Гоблина
ВК в переводе Гоблина
Небольшое "узкопрофильное" исследование французского историка посвящено явлению привидений в Средневековье во всех возможных аспектах. При этом под термином ghost подразумевается не только призрак в привычном смысле этого слова, который должен выглядеть, как Карлсон под простыней, но и вообще любое явление мертвых. Понятие Средневековье, впрочем, автор толкует тоже весьма широко, беря период с 5 по 15 века и начиная с Августина Блаженного. При этом Шмитт разбирает весьма тщательно именно "официальные" источники - различные летописи, научные труды, сборники "чудес" и поучений, издаваемые монастырями и т.д. Таким образом, основа работы максимально "научна" применительно к науке описываемого времени, а образованность и адекватность большинства авторов не вызывает сомнений. Стоит оговориться, что в силу "церковной книжности" и писателями, повествующими о явлении призраков, прежде всего были образованные монахи, и уже значительно позже, где-то века с 12 - образованные миряне (не буду утверждать, что до 12 века образованных мирян не было, но, видимо, им было не до того). Так что в целом, как ни забавно, взявшись за это "несерьезное" по тематике исследования, быстро обнаруживаешь знакомые имена совершенно почтенных людей типа Беды Достопочтенного и Гервасия Тильберийского, цвет интеллигенции своего времени, в общем. Именно на свидетельства подобного рода - а не на какие-нибудь крестьянские легенды - и цитирует в основном автор.

Книга состоит из нескольких разделов, посвященных отдельным аспектам или вариантам являния призраков. Самый интересный, на мой взгляд - часть про Дикую охоту, или Hellequin's Hunt, по имени возглавляющего ее призрака. Кстати, я не знала, что имя Hellequin, вошедшее в фольклор именно применительно к массовому явлению опасных мертвецов, прежде всего, армии мертвых, впоследствии, будучи "творчески воспринято" commedia dell'arte, дало известного всем Арлекина.
Не скажу, чтобы работа отличалась глубокой научной новизной, как выражается 4 часть ГК, или была сильно оригинальна в части авторских выводов: большинство идей, к которым приходит автор, и так логически следуют из приведенного им же материала, а многократные повторения одних и тех же упоминаний о призраках для иллюстрации разных моментов его не украшают. Но в целом читать это интересно скорее как удобную подборку данных из первоисточников с хорошими комментариями.
Наиболее интересный (и наиболее логичный, но не очевидный) вывод связан с трансформацией представлений о призраках за 10 веков. Если для Августина призраки есть нечто крайне сомнительное, пережиток языческих предрассудков, то уже начиная века с 10 церковь не просто признает их - а вполне успешно монетизирует. Явления призраков, о которых свидетельствуют источники, массово начинают расцениваться как просьбы призраков о помощи к оставшимся в живых родственников. Каким образом можно помочь мертвому человеку, который нагрешил достаточно на пару сотен лет мучений в Чистилище? Конечно, понеся свои денежки в церковь и заказав сотню-другую месс, чтобы скостить ему срок. Кстати, замечание Шмитт, "легализация" явлений подобного рода прямым образом была связана с развитием догмата о Чистилище. Ествественно, это представляло для церкви допольнительный, и значимый источник дохода, ну и в какой-то степени регулировало социальные отношения тоже. В частности, наследники, не исполнившие последнюю волю покойного, рисковали подвергнуться нападению его недовольного привидения.
Кое-что в этой книге было очень интересно, кое-что занудновато, но, безусловно, это хорошая научная работа, опирающаяся на большое число источников, в т.ч. тех, которые на русский отродясь не переводили, и именно в качестве обработки первоисточников она особенно интересно. Удивительно даже, что для очень образованных людей того периода явление призраков было делом вполне достоверным, даже если история доходила до них через третьи руки. Впрочем, автор вполне логично объясняет это значительной религиозной составляющей: если ты искренне веришь во всю религиозную догматику (без всяких протестантских оговорок о демифологизации!), почему бы не поверить и в привидений.
среда, 22 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис
Что в романе было по-настоящему классно - так это ощущение нарастающего напряжения и ожидания, которое авторам удалось создать на этапе подготовки спектакля по "Первой ночи" к последнему прогону.
Вообще "театральная" часть вышла куда лучше, живей и понятней, чем "психологическая", или "пещерная". Изначально это очень интересная заявка: мир, в котором Ид полностью вынесен в область ночных снов. Всем людям снится один и тот же сон, мир Пещеры, в котором каждый играет свою роль: кто-то охотник, кто-то жертва, кто-то и то, и другое. Таким образом находит выход естественная человеческая агрессия, и в дневном мире царит тишь-гладь.
Формально Пещеру-то авторы нарисовали, только мира-без-агрессии я так и не увидела. Когда режиссер доводит до истерики начинающих актеров просто ради развлечения - это не агрессия? Когда начальник орет на подчиненную и всячески третирует ее за мелкие оплошности - это тоже не агрессия? Уж психолог-то мог бы учесть, что такая агрессия может быть похлеще физической. Но нет, уровень бытовой агрессивности у персонажей (при том, что они все - нормальные люди) вполне обычный. И либо Пещера не выполняет своих функций, либо ее функции совсем не такие, какие преподносятся обществу загадочной организацией Треглавец, которая всем этим управляет.
Погадать об истинном назначении Пещеры, конечно, довольно интересно. Положим, это удобный механизм, чтобы "убрать неугодных" - учитывая, что убийства в Пещере вроде как анонимные, ну хищник съел травоядного, бывает. И никто не узнает, как оно на самом деле было, такая смерть во сне считается естественной. Но устраивать такой сложный эксперимент только с этой целью как-то очень бессмысленно. В этой связи неочевидно, во-первых, влияние Пещеры на повседневную жизнь (так, чтобы вот прямо изменить обычную рутину людей из этого воображаемого мира по сравнению, скажем, с нашей рутиной).
Еще одна претензия - никогда не поверю, что будь Пещера сто раз табуированной темой, не было бы никаких исследований на этот счет, никаких безумных сект, никакого искусства, в конце концов. Это в развитом-то обществе, в котором есть машины и телевидение. Притом, что наказание за поднятие табуированной темы тоже неочевидно: ну, могут отменить проблемный спектакль "по соображениям общественной нравственности" - в СССР за анекдоты давали по 10 лет лагерей, скажем, и никто не переставал их рассказывать, и все все знали. А тут какое-то общество блаженных инфантилов получается. И глаза у них откроются, очевидно, только если им что-то покажут по телевизору, официально - к этому ведет финал, по крайней мере. Вначале мне понравился этот эпический пафос финала - трансляция запрещенной пьесы в обманом захваченном телецентре. Но по большому счету, стоит задуматься - это ведь пшик. Уловка, использованная и в "Облачном атласе": героиня излагает свое "откровение", за ее "эфирное время" бьется с врагами группа поддержки - предполагается, что это изменит мир. Мир, испытывающий тотальный недостаток информации и сплошь состоящий из людей-ведомых - может быть. Но обычный квази-современный мир с ее переизбытком - ой, вряд ли.
Интересна еще линия с "горными княжествами" и деревнями, так страшно казнящими "оттудиков" - она началась как-то очень скромно и не в тему - и в итоге повисла в воздухе. Получается, что на расстоянии нескольких дней пешего пути (! это очень мало для цивилизации, в которой есть машины) процветает не просто варварство, а полнейшее Средневековье - и эта цивилизация не чешется ничего с этим сделать.
Из всего этого выходит очень нехорошая мораль, к сожалению. Совсем не такая, боюсь, какую закладывали авторы. О том, как страшно общество нелюбопытных людей-инфантилов, людей-жертв. Которым по загадочным причинам власть предержащие устроили такой заповедник, защищают их от агрессии более активных и жизнеспособных особей. А жертвы в ответ делают именно то, что и положено жертвам - не сопротивляются. Главная героиня, Павла, как раз образчик такого поведения. С самого начала текста мы узнаем, что она неорганизованная, безалаберная и безответственная на работе. Зато терпеливо сносит сначала гнев начальника, а потом происходящие с ней странные вещи. И даже когда ее любовник на несколько месяцев (!) запирает ее в психушке и проводит над ней какие-то нехорошие опыты - она и не думает этому сопротивляться. А терпеливо верит, когда ей говорят, что она психически больна, что она должна то, должна се. Удивительно, что продемонстрировав такую дивную живучесть в Пещере, в дневном мире она оказывается просто образцово беспомощной - хотя по идее это должно коррелировать. Усилия случайного друга убедить девицу, что она не больна, что не надо доверять всем, что не надо позволять ставить над собой опыты - все впустую.
Зато режиссер Кович вызывает очень большую симпатию своей полнейшей адекватностью, заботливостью, целеустремленностью и вообще порядочностью. Его персонаж вполне раскрыт и понятен, и все его поступки не вызывают вопросов "ну какого черта" (в отличие от поступков Павлы или Тритана), а порождают ощущение полнейшей правильности и единственно возможного пути для здравого человека. Включая последний поступок, да. Поэтому все, что в романе связано непосредственно с ним, очень живо и интересно. А вот все, что связано непосредственно с непутовой Павлой - увы. К сожалению, в реальном мире и так слишком часто приходится наблюдать бестолковые метания подобных недотыкомок, и терпеть их еще и в литературе - уже чересчур, поэтому первую половину романа, где Павла солирует, я больше скучала и раздражалась.
Самое интересное, что могло бы быть в тексте - раскрытие смысла Пещеры (или хотя бы смысла Треглавца) или какой-то поворот в сознании масс, связанный с этой пресловутой Пещерой - увы, отсутствует. Героическая демонстрация запрещенного спектакля - хорошая тема для социально драмы из советской эпохи, а не для фантастики, да и в общем контексте романа и заявленной широты проблематики выглядит как-то несерьезно. Я в принципе поддерживаю идею, что "удел человека - знание", и поэтому странный мир Пещеры гораздо лучше рационализировать и изучить, чем замалчивать, но, по здравому размышлению, никакого катарсиса не происходит. Ну спектакль, ну и что. Даже пусть спектакль хороший и режиссер гений - этого недостаточно, чтобы положить на чашу весов, если на другой, например, человек, заживо насаженный на обод колеса и сброшенный в овраг горными дикарями, не знающими никаких Пещер.
Вообще "театральная" часть вышла куда лучше, живей и понятней, чем "психологическая", или "пещерная". Изначально это очень интересная заявка: мир, в котором Ид полностью вынесен в область ночных снов. Всем людям снится один и тот же сон, мир Пещеры, в котором каждый играет свою роль: кто-то охотник, кто-то жертва, кто-то и то, и другое. Таким образом находит выход естественная человеческая агрессия, и в дневном мире царит тишь-гладь.
Формально Пещеру-то авторы нарисовали, только мира-без-агрессии я так и не увидела. Когда режиссер доводит до истерики начинающих актеров просто ради развлечения - это не агрессия? Когда начальник орет на подчиненную и всячески третирует ее за мелкие оплошности - это тоже не агрессия? Уж психолог-то мог бы учесть, что такая агрессия может быть похлеще физической. Но нет, уровень бытовой агрессивности у персонажей (при том, что они все - нормальные люди) вполне обычный. И либо Пещера не выполняет своих функций, либо ее функции совсем не такие, какие преподносятся обществу загадочной организацией Треглавец, которая всем этим управляет.
Погадать об истинном назначении Пещеры, конечно, довольно интересно. Положим, это удобный механизм, чтобы "убрать неугодных" - учитывая, что убийства в Пещере вроде как анонимные, ну хищник съел травоядного, бывает. И никто не узнает, как оно на самом деле было, такая смерть во сне считается естественной. Но устраивать такой сложный эксперимент только с этой целью как-то очень бессмысленно. В этой связи неочевидно, во-первых, влияние Пещеры на повседневную жизнь (так, чтобы вот прямо изменить обычную рутину людей из этого воображаемого мира по сравнению, скажем, с нашей рутиной).
Еще одна претензия - никогда не поверю, что будь Пещера сто раз табуированной темой, не было бы никаких исследований на этот счет, никаких безумных сект, никакого искусства, в конце концов. Это в развитом-то обществе, в котором есть машины и телевидение. Притом, что наказание за поднятие табуированной темы тоже неочевидно: ну, могут отменить проблемный спектакль "по соображениям общественной нравственности" - в СССР за анекдоты давали по 10 лет лагерей, скажем, и никто не переставал их рассказывать, и все все знали. А тут какое-то общество блаженных инфантилов получается. И глаза у них откроются, очевидно, только если им что-то покажут по телевизору, официально - к этому ведет финал, по крайней мере. Вначале мне понравился этот эпический пафос финала - трансляция запрещенной пьесы в обманом захваченном телецентре. Но по большому счету, стоит задуматься - это ведь пшик. Уловка, использованная и в "Облачном атласе": героиня излагает свое "откровение", за ее "эфирное время" бьется с врагами группа поддержки - предполагается, что это изменит мир. Мир, испытывающий тотальный недостаток информации и сплошь состоящий из людей-ведомых - может быть. Но обычный квази-современный мир с ее переизбытком - ой, вряд ли.
Интересна еще линия с "горными княжествами" и деревнями, так страшно казнящими "оттудиков" - она началась как-то очень скромно и не в тему - и в итоге повисла в воздухе. Получается, что на расстоянии нескольких дней пешего пути (! это очень мало для цивилизации, в которой есть машины) процветает не просто варварство, а полнейшее Средневековье - и эта цивилизация не чешется ничего с этим сделать.
Из всего этого выходит очень нехорошая мораль, к сожалению. Совсем не такая, боюсь, какую закладывали авторы. О том, как страшно общество нелюбопытных людей-инфантилов, людей-жертв. Которым по загадочным причинам власть предержащие устроили такой заповедник, защищают их от агрессии более активных и жизнеспособных особей. А жертвы в ответ делают именно то, что и положено жертвам - не сопротивляются. Главная героиня, Павла, как раз образчик такого поведения. С самого начала текста мы узнаем, что она неорганизованная, безалаберная и безответственная на работе. Зато терпеливо сносит сначала гнев начальника, а потом происходящие с ней странные вещи. И даже когда ее любовник на несколько месяцев (!) запирает ее в психушке и проводит над ней какие-то нехорошие опыты - она и не думает этому сопротивляться. А терпеливо верит, когда ей говорят, что она психически больна, что она должна то, должна се. Удивительно, что продемонстрировав такую дивную живучесть в Пещере, в дневном мире она оказывается просто образцово беспомощной - хотя по идее это должно коррелировать. Усилия случайного друга убедить девицу, что она не больна, что не надо доверять всем, что не надо позволять ставить над собой опыты - все впустую.
Зато режиссер Кович вызывает очень большую симпатию своей полнейшей адекватностью, заботливостью, целеустремленностью и вообще порядочностью. Его персонаж вполне раскрыт и понятен, и все его поступки не вызывают вопросов "ну какого черта" (в отличие от поступков Павлы или Тритана), а порождают ощущение полнейшей правильности и единственно возможного пути для здравого человека. Включая последний поступок, да. Поэтому все, что в романе связано непосредственно с ним, очень живо и интересно. А вот все, что связано непосредственно с непутовой Павлой - увы. К сожалению, в реальном мире и так слишком часто приходится наблюдать бестолковые метания подобных недотыкомок, и терпеть их еще и в литературе - уже чересчур, поэтому первую половину романа, где Павла солирует, я больше скучала и раздражалась.
Самое интересное, что могло бы быть в тексте - раскрытие смысла Пещеры (или хотя бы смысла Треглавца) или какой-то поворот в сознании масс, связанный с этой пресловутой Пещерой - увы, отсутствует. Героическая демонстрация запрещенного спектакля - хорошая тема для социально драмы из советской эпохи, а не для фантастики, да и в общем контексте романа и заявленной широты проблематики выглядит как-то несерьезно. Я в принципе поддерживаю идею, что "удел человека - знание", и поэтому странный мир Пещеры гораздо лучше рационализировать и изучить, чем замалчивать, но, по здравому размышлению, никакого катарсиса не происходит. Ну спектакль, ну и что. Даже пусть спектакль хороший и режиссер гений - этого недостаточно, чтобы положить на чашу весов, если на другой, например, человек, заживо насаженный на обод колеса и сброшенный в овраг горными дикарями, не знающими никаких Пещер.
суббота, 18 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис
 Давно собиралась почитать этого автора, но как-то руки не доходили. Французский "сказочник", писатель "для детей", с совершенно сказочной фабулой, но не сказочным ужасом, который вызывают самые простые моменты, несказочной бытовой жестокостью и недетской реалистичностью.
Давно собиралась почитать этого автора, но как-то руки не доходили. Французский "сказочник", писатель "для детей", с совершенно сказочной фабулой, но не сказочным ужасом, который вызывают самые простые моменты, несказочной бытовой жестокостью и недетской реалистичностью."Горе" начинается как святочная история: на маленьком острове растут два брата - не разлей вода, и только пара человек знает, что на самом деле они не настоящие братья, одного из них, новорожденного, подкинули в дом к счастливой семье. И почти никто не знает, что этот новорожденный подкидыш - сын убитого злодеем принца и законный наследник престола.
Для сказочного сюжета этого уже было бы вполне достаточно, и можно было бы предположить, как мальчик, пройдя череду перипетий, займет законный трон. Но все выходит не так. В уютный святочный мир внезапно врывается зло извне - не какое-нибудь фантастическое чудовище, а самая обычная война, сначала - оборонительная, потом - захватническая. И с этого момента сказка перестает напоминать сказку, а реалистичностью и жуткостью описаний начинает напоминать прозу Бориса Васильева. Впрочем, это только одна ее сторона - с другого бока Мурлева остается если не фантастичным, то, во всяком случае, малореалистичным повествователем. Особенно это заметно во второй части романа, в которой текстовое время то растягивается, то бежит, перепрыгивая через годы. Первая половина занимает от силы несколько месяцев, вторая - 10 лет, и начинается восемь лет спустя после первой. Это оправданно в какой-то мере: в первой части братья - дети, и день для них дорог, и все события удивительно ярки, потому что в первый раз. Во второй части зрение героям закрывает не только возраст, но еще и туман войны и потерь.
Мне не сразу пришло в голову, что завоевание Контитента, в котором участвуют (отдельно и не зная об этом) оба разлученных брата - собственно, метафора войны 812 года. Все логично: автор-француз, жители захватываемого Контитента говорят на странном выдуманном языке, отдельными звуками все же напоминающем русский. На Контитенте омерзительная погода, и армия вторжения страдает не столько от неприятеля, сколько и холодов и болезней. Наконец они упираются в неприступный город, защитники которого не пойми как держатся столько времени, хотя давно уже были умереть от голода и сдаться - и под этим-то городом и терпят поражение, а потом бегут назад по холоду и голоду. Эпизод с ломающимися мостами на переправе и гибелью отступающей армии в ледяной воде - как отзвук сражения на речке Березине.
Но я отвлеклась, это просто интересное наблюдение. На самом деле, интереснее всего в книге - невысказанная мораль о том, что люди и меняются, и не меняются. Украденный в десять лет ребенок настолько привыкает к своим похитителям (которые и сами начинают его любить), что не хочет знать никаких других родителей. Но 18-летний юноша не может забыть первую любовь, встреченную в мраке войны, и годами ищет ее по свету. Хэппи-энд оказывается совсем не таким, как ожидался, и для кого-то, вопреки сказочной логике, он представляется все же невозможным.
Читала с упоением, но не уверена, что это стоит давать детям, во всяком случае, не маленьким: местами было правда жутко, притом, что специально автор напугать не пытается. Очень атмосферная книга с этим постоянным ощущением зимы, снега и холода, которое от героев передается читателю. Буду еще читать этого автора при случае.
Шпенглер & Инститорис
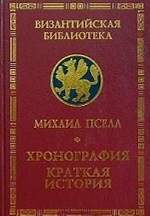 О Пселле я впервые узнала из книжки Иванова про византийский Стамбул - и, надо отдать Иванову должное, для своего путеводителя он выбрал из Пселла все самое лучшее. Ну как лучшее - самый треш, угар и содомию. На самом деле Пселл не настолько концентрирован, хотя треша, конечно, ему не занимать. Особая прелесть этой звезды византийской историографии 11 века в том, что он описывает не просто современные ему события, а в большинстве случаев еще и те, непосредственным участником которых он был. Пселл значительную часть своей жизни провел при византийском императорском дворце, с достойной удивления стабильностью оставаясь на плаву на самом верху, притом, что сами императоры сменялись c завидной регулярностью, и минимальный срок царствования из описанных Пселлом составлял, кажется, несколько месяцев.
О Пселле я впервые узнала из книжки Иванова про византийский Стамбул - и, надо отдать Иванову должное, для своего путеводителя он выбрал из Пселла все самое лучшее. Ну как лучшее - самый треш, угар и содомию. На самом деле Пселл не настолько концентрирован, хотя треша, конечно, ему не занимать. Особая прелесть этой звезды византийской историографии 11 века в том, что он описывает не просто современные ему события, а в большинстве случаев еще и те, непосредственным участником которых он был. Пселл значительную часть своей жизни провел при византийском императорском дворце, с достойной удивления стабильностью оставаясь на плаву на самом верху, притом, что сами императоры сменялись c завидной регулярностью, и минимальный срок царствования из описанных Пселлом составлял, кажется, несколько месяцев."Хронография" - это, собственно, история правления рядя византийских императоров, которых ,более ли менее застал сам автор - от Василия II (976-1025) до Михаила VII Дуки (1071-1078). Она небольшая по объему, и разным императорам также уделено различное внимание, больше, конечно, достается тем, кого Пселл знал лично. Особенностью именно Пселла среди прочих историков является не только взгляд на значимые государственные события "из первых рук", но и очень живой и своеобразный стиль изложения. Комментаторы говорят, что Пселл выгодно отличается от всех других историков того периода (которых я не читала), во-первых, своим выдающимся интеллектом и литературным талантом (он и правда был выдающийся, судя по всему, учитывая, что именно этим достоинствам Пселл обязан своим продвижением при дворе), а во-вторых, очень личным взглядом, а не сухим изложением незаинтересованного хронографа. Описания тех или иных императоров и событий практически всегда выходят у Пселла не просто живыми, но еще и подкрашенными его личными оценками, и тут он совершенно не стесняется. Плюс "Хронографии" - в своеобразной пристрастной беспристрастности: автор не скрывает своих оценок, но и не преследует цель очернить или обелить ту или иную фигуру, напротив, он "честно" признает, что вот здесь император молодец, а вот здесь налажал.
Еще одна особенность состоит в том, что Пселл пишет не историю империи, а именно историю императоров. Повествование у него всегда сконцентрировано вокруг личности конкретного правителя; он подробно описывает не только приход к власти или уход от оной (далеко не всегда по естественным причинам), но также и свойства характера, личную жизнь, интересы, ценности и тд. данного императора. В большинстве случаев Пселлу, видимо, можно верить, учитывая, что он общался со своими объектами непосредственно и долго. За счет этого повествование, возможно, несколько теряет в эпичности (к примеру, Пселл временами путает последовательность событий, может парой слов обмолвиться о какой-нибудь важной войне, а о том, в чем император лично не участвовал, и вовсе промолчать), зато приобретает в интересности.
Не говоря уж о том, что соответствующая эпоха и сама по себе крайне интересна, хотя и не всегда приятно. Реальная история Византии того периода уделывает по числу трупов, уровню интриг и высоте ставок какую-нибудь "Игру престолов" с разгромным счетом. Учитывая, что на императорском троне при определенных условиях мог оказаться практически кто угодно, в том числе даже второй раз - ранее свергнутый император, которому узурпаторы еще и нос отрезали. Так и сидел, без носа. А уж интриги вокруг трона с участием военных, городской аристократии, церкви и совершенно особого класса евнухов плелись вообще не прекращаясь. И никто из сильных того мира не мог поручиться за сохранность своих глаз и гениталий (учитывая, что ослепление и оскопление были любимыми видами наказания в христианнейшей империи, и оттуда эта мода пошла на Русь). Комментаторы пишут, что Пселл дожил до старости и умер своей смертью, видимо, только потому, что достаточно высоко все-таки никогда не поднимался и в борьбе за власть не участовал, а просто служил тому, кто сейчас император.
Забавно, что в научной литературе, признавая исключительные качества Пселла как образованнейшего человека своего времени и все его дарования, как личность его принято скорее осуждать. Хотя это неразумно, мне кажется, Пселл был классический царедворец и вел себя именно так, как предполагала эпоха, то есть льстил, лгал и радостно подталкивал падающего. В своей "Хронографии" Пселл пишет об ослеплении некоего уже свергнутого императора как о возмутительном варварстве. Комментарий сообщает на это, что именно Пселл как советник нового императора приложил руку к этому, а потом еще и написал слепому издевательское письмо с соболезнованиями. Учитывая, что мы, слава богу, не там, это скорее забавляет; в кои-то веки историк - не скучный кабинетный ученый, а средний дворцовый хищник. Не говоря уж о том, что Пселл., оставивший огромное количество работ по различным областям науки, свои занятия историей никогда особо всерьез и не рассматривал.
"Краткая история" - действительно очень краткая. Пселл перечисляет всех правителей Римской империи, начиная от Ромула и заканчивая там, где начинается "Хронография", каждому уделяется буквально одна-две странички. Комментарии сообщают, что она писалась как основа для обучения императорского наследника, а не как самостоятельный труд, собственно. Поэтому она чуть более поучительна и чуть менее трешева, чем "Хронография", но все равно местами очень забавна.
суббота, 11 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис

"Квиддич" мне понравился больше, чем "Фантастические твари", как ни странно. Он и более логичный, и более информативный. Если "Фант. твари" вызывают серьезные сомнения в научном подходе и скорее ориентированы на дошкольную аудиторию, то "Квидич" вполне потянет на приличную курсовую по логичности текста и глубине проработки. Интересно, прежде всего, в части новой информации, которой нет в книгах про ГП. В "Квидиче" этого куда больше, и изложено все очень последовательно. Тут и история игры с древнейших времен, и развитие квидичных правил и инвентаря также с древнейших времен, и "реакция общественности" на изменения, и обзор того, как играют в квидич в разных странах. По сравнению с "Тварями", повествование значительно более гладкое и, в принципе, не вызывает вопросов к логике и полноте.
"Квидич", кстати, тоже вполне экранизируем, и тут можно было бы хоть в какой-то степени опираться на текст книги, в отличие от тех же "Тварей", где сюжет для экранизации придуман буквально на пустом месте.
Милая книжка на один день туда и обратно в метро. Несмотря на то, что в романах о ГП квиддич меня, как Гермиону, всегда страшно бесил и казался ужасно занудным, в более "наукообразном" исполнении это даже интересно.
четверг, 09 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис

Честно признаюсь, открывая эту книгу, я не знала о ранневизантийской литературе ровным счетом ничего. До такой степени ничего, что не могла бы назвать ни одного автора-представителя, ни даже временные рамки. К концу ее, правда, мои знания *фактажа* увеличились не особо, зато общее понимание не только литературы, но и эпохи в целом - не то что улучшилось, а вообще появилось.
Если об античности все знают хоть что-нибудь, как и о Средневековье, то история Византии в той части, в которой она не пересекается с историей Древней Руси - темное пятно. По крайней мере, у меня. А уж ранняя Византия - так тем более. И совершенно неожиданно для себя я обрела в этой книге много очень полезных деталей, касающихся этой эпохи, не бытового плана, а скорее психологического или социального.
Собственно, ранневизантийский по Аверинцеву - это период примерно с первой половины 4 века до первой половины 7 века включительно, от Константина I до Ираклия I. Дальше в уютный мирой Виантийской империи вторгся недавно возникший ислам, быстренько сметя половину ее, и все пошло уже иначе. А вот за эти волшебные 400 лет Византии кроме внутренних дрязг, по большому счету, мало что мешало, империя росла и богатела, обзаводилась собственной уникальной культурой на стыке восточного деспотизма, греко-римской античности и христианской философии.
Собственно, "поэтика ранневизантийской литературы" - это очень скромно сказано. На самом деле, материал небольшой по объему книги настолько всеобъемлющ по сути, что вернее было бы назвать ее "поэтика ранневизантийского всего". Мира, культуры, философии, мироощущения людей. Из 250 страниц первые 150 про какие-то конкретные литературные произведения или авторов Аверинцев почти и не заикается - но об этом совершенно не жалеешь.
Структурно, на самом деле, эта работа больше всего напоминает "Осень Средневековья" Хейзинги, только Аверинцев берет не какие-то конкретные культурные проявления, а скорее разные социологические аспекты. К примеру, наиболее впечатлившая меня глава посвящена тому, что считалось унижением и как воспринималось человеческое достоинство в ранней Византии. При этом он приводит очень яркие сравнение с подходом к этому же вопросу в античном мире, на фоне которых трансформация в византийском периоде просто потрясает. Скажем, в античности, говорит Аверинцев, гражданам гарантировалось право на неприкосновенность тела, даже врагам государства давали умереть, совершив пристойное самоубийство и произнеся при этом соответствующие красивые и значимые речи. Сюда же относятся и культ тела и красоты, физического здоровья, и уважение к достойному самоубийству. Христианство перевернуло это полностью: чего только не делали с мучениками первых веков империи, да те и сами не ценили телесную красоту и здоровье; к тому же христианство категорически осуждает самоубийство. Это наблюдение о полном изменении подхода к данному вопросу можно экстраполировать с легкостью на все аспекты культуры, в том числе на литературу.
Другая замечательная глава - о культе школы и школьного, библиотечного знания, культе письма и писарей, книжных червей в Византии. Греки и римляне, конечно, тоже были образованными людьми, но при этом письмо и книжничество как таковое у них совсем не культивировались, даже напротив, осуждались как занятие, неприличные доблестному мужу, который должен демонстировать свои интеллектуальные способности за счет ораторского искусства и прямого общения с согражданами. Византия того периода, как следует из Аверинцева - это страна для меня, поскольку нигде не было больше в таком почете неприкладное книжное знание и книги как вещи. Тут, кстати, автор очень интересно и неожиданно цитирует именно литературные произвдения, разбирая "книжную" метафорику - подчас совершенно странную, но очень знаковую.
В целом каждая глава небольшой книги посвящена такому своеобразному пласту духовной жизни византийского общества, который напрямую находит свое отношение и в литературе тоже, но который на самом деле намного больше литературы. Аверинцев пишет не только про Византию, но также про ее предшественницу Римскую империю, про культуру греческих городов и соседних восточных деспотий, пытаясь проследить, откуда пришел тот или иной подход и как трансформировался. Я темно объясняют, но Аверинцев куда понятней и четче. Он вообще очень конкретно, живо и образно пишет, и местами очень ясно проступает фигура автора-человека (не как личный отпечаток на профессиональном мнении, а как хороший лектор, на которого еще и смотришь, а не только слушаешь). В целом это ужасно здорово.
По соотношению объема и информативности это, пожалуй, одна из лучших работ не столько по литературоведению, сколько по культурологии, что я читала. С учетом огромного разбираемого материала и очень широкого разброса отсылок и сравнений текст не просто компактный, а идеально уложенный, концентрированный и очень ясный.
Что до собственно ранневизантийской литературы - Аверинцев возвращается к своему "официальному" предмету примерно в последней трети и, несмотря на то, что это так же хорошо написано, эта часть куда менее интересна. То есть, возможно, любителям сабжа она понравится - но я из цитат и их разборов убедилась только в том, что читать это по доброй воле может либо специалист, либо какой-то совсем безумный фанатик. Местами не просто темно и многословно - а темнота и многословие уделывают все скандинавские кеннинги разом. С другой стороны, кроме Романа Сладкопевца и Нонна Панополитанского, Аверинцев никого из авторов детально и не разбирает. Очень интересен еще, кстати, анализ "Акафиста Богородицы" (от которого, собственно, и пошло слово "акафист" как церковный жанр) исключительно с литературной точки зрения - но тут я слишком мало разбираюсь в предмете, чтобы сделать для себя какие-то внятные выводы.
В общем, всячески рекомендую эту книжку именно как культурологическое исследование по ранней Византии.
воскресенье, 05 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис
 Исключительно чтобы зафиксировать, что я это читала. Хороший путеводитель именно на почитать, кстати: много исторических сведений, легенд, мини-статеек на специфические темы типа виноделия и народных промыслов. Ходить с ним не будешь: нет карт, нет адресов и много текста. А изучить до поездки полезно, я именно по нему план на ближайшую составила.
Исключительно чтобы зафиксировать, что я это читала. Хороший путеводитель именно на почитать, кстати: много исторических сведений, легенд, мини-статеек на специфические темы типа виноделия и народных промыслов. Ходить с ним не будешь: нет карт, нет адресов и много текста. А изучить до поездки полезно, я именно по нему план на ближайшую составила.Кстати вот скажите, может, стоит вместе с отзывами выкладывать обложки (для тех книг, что читала на бумаги) - это кому-то надо?
суббота, 04 февраля 2017
Шпенглер & Инститорис
Приятно снова окунуться в мир юности и ГП под любым предлогом, хотя того, кто ждет от книги чего-то, подобного экранизации, конечно, постигнет разочарование. Это действительно квази-школьный учебник, а на самом деле просто подборка около сотни маленьких статеек о волшебных животных в алфавитном порядке. Глубина проработки более чем сомнительная: даже из самого ГП о кое-каких животных узнаешь больше, чем из этой книги. Так что, если честно, похоже вовсе даже не на научный труд, а скорее на реферат пятиклассника. Пожалуй, только о видах драконов написано интересно, в остальном же - и поверхностно, и беспорядочно. Впрочем, Ро и не собиралась, как я понимаю, повторять подвиг профессора Толкина по построению своего волшебного мира. Это неплохая "кость" для фанатов, деньги пошли на благотворительность, всем хорошо.
Думаю, эту книгу стоило бы издать большим форматом с очень хорошими иллюстрациями, которые скрасили бы скудность текста - был бы отличный подарок для любого ребенка.
Я все равно получила удовольствие от чтения: написано тем же милым и легким слогом, что и Сказки барда Бидля, и в процессе действительно отдыхаешь.
Думаю, эту книгу стоило бы издать большим форматом с очень хорошими иллюстрациями, которые скрасили бы скудность текста - был бы отличный подарок для любого ребенка.
Я все равно получила удовольствие от чтения: написано тем же милым и легким слогом, что и Сказки барда Бидля, и в процессе действительно отдыхаешь.
понедельник, 30 января 2017
Шпенглер & Инститорис
Очередной печальный случай из моей библиотеки: я знать не знала даже о существовании такого автора, пока не начала его читать, а следовало бы. И это не пробел в знаниях, а полное отсутствие знаний об этом периоде, увы, не считая, разве Светония. А Евсевия Памфила называют еще отцом церковной истории.
Исторически, насколько я понимаю, это действительно первая попытка написать именно историю христиан и христианства, затрагивая дела Римской империи лишь постольку, поскольку они касаются предмета (то есть поскольку христиан сжигали или не сжигали). Автор жил в конце 3 - начале 4 века и ведет историю начиная от учеников Иисуса и до своего времени, то есть до Константина Великого. Повествование более ли менее хронологическое, хотя никаких дат Евсевий, понятно, не ставит, и удобнее всего ориентироваться на времена правления того или иного императора.
Что кажется непривычным, так это сугубая деловитость, полнейшее отсутствие соплей, восторгов и "воды" в любом ее виде. Притом, что Евсевий очень много пишет не только о церковных иерархах, но и о "рядовых" христианах, прежде всего, пострадавших за веру. Очень значительную часть текста составляют описание, кто и как сподобился мученичества, и пишет он, не ориентируясь на возрастной ценз, со скупыми, но очень живыми деталями. Одна-две подобных истории прошли бы незамеченными - в конце концов, про то, что христиан в первые века травили зверями на арене, и так все знают. Но обилие их по всему тексту постепенно производит угнетающее впечатление и заставляет вспомнить аналогичные пассажи у Сарамаго, целыми страницами.
Теперь мне искренне захотелось понять, зачем в действительности римским властям было истреблять своих подданных в таком количестве и с такой жестокостью, потому что ну может быть один бюрократ сумасшедшим садистом, но не все власть предержащие же! Учитывая, что никакого практического смысла это не имело.
Впрочем, суть истории не в мучениках, конечно. Евсевий довольно много говорит о судьбах некоторых апостолов, об их учениках, прочих известных христианских мыслителях и учителях. Очень интересны эпизоды, где он описывает и разбирает современные ему религиозные книги, в частности, пытается дать толкование, какие Евангелия и послания считать каноническими, а какие - нет. Автор довольно много цитирует: из работ других христианских ученых (причем некоторые из них сохранились ровно в объеме цитат Евсевия), письма, указы, даже завуалированно приводит собственную речь по поводу, кажется, действий Константина.
Больше всего текст интересен мне лично как история взаимоотношений христианской общины и государства. Как христиантво постепенно трансформировалось из локальной секты сначала в опасное течение, приверженцев которого власть всячески истребляла, а потом в официальную религию империи. Шаги вперед, шаги назад, значение действий отдельных людей.
Еще Евсевий много пишет про ереси и еретиков. Это ужасно интересно, но, к сожалению, он не разбирает суть еретических учений особо подробно, а больше останавливается на том, кого из ересиахов как наказал бог))
Чем очень хорош еще текст Евсевия: в нем нет, собственно, проповеди христианства. Он написан исключительно "для своих" и не несет никакого нравоучительного или моралистического посыла (кроме того, который естественным образом рождается у читателя, когда читаешь про мучеников). Это именно история, с фактами и документами, несмотря на специфическую точку зрения.
Исторически, насколько я понимаю, это действительно первая попытка написать именно историю христиан и христианства, затрагивая дела Римской империи лишь постольку, поскольку они касаются предмета (то есть поскольку христиан сжигали или не сжигали). Автор жил в конце 3 - начале 4 века и ведет историю начиная от учеников Иисуса и до своего времени, то есть до Константина Великого. Повествование более ли менее хронологическое, хотя никаких дат Евсевий, понятно, не ставит, и удобнее всего ориентироваться на времена правления того или иного императора.
Что кажется непривычным, так это сугубая деловитость, полнейшее отсутствие соплей, восторгов и "воды" в любом ее виде. Притом, что Евсевий очень много пишет не только о церковных иерархах, но и о "рядовых" христианах, прежде всего, пострадавших за веру. Очень значительную часть текста составляют описание, кто и как сподобился мученичества, и пишет он, не ориентируясь на возрастной ценз, со скупыми, но очень живыми деталями. Одна-две подобных истории прошли бы незамеченными - в конце концов, про то, что христиан в первые века травили зверями на арене, и так все знают. Но обилие их по всему тексту постепенно производит угнетающее впечатление и заставляет вспомнить аналогичные пассажи у Сарамаго, целыми страницами.
Теперь мне искренне захотелось понять, зачем в действительности римским властям было истреблять своих подданных в таком количестве и с такой жестокостью, потому что ну может быть один бюрократ сумасшедшим садистом, но не все власть предержащие же! Учитывая, что никакого практического смысла это не имело.
Впрочем, суть истории не в мучениках, конечно. Евсевий довольно много говорит о судьбах некоторых апостолов, об их учениках, прочих известных христианских мыслителях и учителях. Очень интересны эпизоды, где он описывает и разбирает современные ему религиозные книги, в частности, пытается дать толкование, какие Евангелия и послания считать каноническими, а какие - нет. Автор довольно много цитирует: из работ других христианских ученых (причем некоторые из них сохранились ровно в объеме цитат Евсевия), письма, указы, даже завуалированно приводит собственную речь по поводу, кажется, действий Константина.
Больше всего текст интересен мне лично как история взаимоотношений христианской общины и государства. Как христиантво постепенно трансформировалось из локальной секты сначала в опасное течение, приверженцев которого власть всячески истребляла, а потом в официальную религию империи. Шаги вперед, шаги назад, значение действий отдельных людей.
Еще Евсевий много пишет про ереси и еретиков. Это ужасно интересно, но, к сожалению, он не разбирает суть еретических учений особо подробно, а больше останавливается на том, кого из ересиахов как наказал бог))
Чем очень хорош еще текст Евсевия: в нем нет, собственно, проповеди христианства. Он написан исключительно "для своих" и не несет никакого нравоучительного или моралистического посыла (кроме того, который естественным образом рождается у читателя, когда читаешь про мучеников). Это именно история, с фактами и документами, несмотря на специфическую точку зрения.
среда, 25 января 2017
Шпенглер & Инститорис
"Современная идиллия"
Щедрин все-таки удивительный писатель: ни в ком больше нет столько злобы и столько прозорливости вместе. Он мог бы стать, пожалуй, великим мирововым классиком формата Тостого и Достоевского, не будь в нем столько прозорливости - это отталкивает, как всякая *неприятная правда*, русских, а иностранцам и вовсе непонятна, наверное. Щедрина нельзя поймать на лжи: все, о чем он пишет, существует. Но все же остается вполне справедливое впечатление, что это рассказ Кая, которому попал в глаза осколок волшебного зеркала: все уродливое, глупое и отвратительное становится очень заметным, выпирает, заявляет о себе, - а кроме этого, ничего и нет. Вопрос о том, действительно ли кроме этого ничего нет - это вопрос, которым задается вечный противник Щедрина, Достоевский, и так удачно отвечает, что именно своим ответом заслуживает место среди мировых классиков. Зрение Щедрина, пусть и более точное, и более ограниченное; это такой негативный микроскоп. Временами глядеть в него полезно, но не стоит делать это постоянно, а то захочется выйти в окно.
"Идиллия" начинается как злая пародия: два не обремененные житейскими проблемами молодые человека решают стать "благонадежными", что в контексте и их времени, и любого времени означает приобретение двух качеств: непроходимой душевной тупости и чинопочитания. Они перестают читать, думать, занимаются сутками только вопросами еды, заводят дружбу с квартальными надзирателями и проникаются духом такой феерической пошлости и глупости, что невольно удивляешься, как им удалось. Героям очень быстро удается освинячиться почти до крайности, при этом сохраняя внешний вид полноценных граждан, и местное полицейское начальство, конечно, чуть ли не ставит их в пример. Все это скорее противно, чем смешно, но занимательно. С другой стороны, таких людей без всяких усилий вполне достаточно, увы, и достаточно было во все времена, и, конечно, они ни на секунду не задумываются, что это с ними не так. Щедрин подает это "облагонадеживание" очень тонко, но так точно, что его реалии можно переложить на реалии современные, или СССР, или 18 века, без малейших затруднений, но при этом, увы, нельзя составить точный список того, что является признаками этой пошлости (кроме глупости, демонстративной необразованности и лебезения перед власть предержащими).
Кажется, в гранях этого падения и пройдет весь роман, и они довольно быстро наскучивают - но во второй половине текст поворачивает в неожиданную сторону: герои отправляются в путешествие по России. Ну как, в путешествие. Сначала их занесло в один городишко Тверской губернии, потом в другой. Но в описании путешествия пародийность переходит совсем уже в фарс и гротеск, и сочетанием безумия и типажности эта часть если не уделывает "Мертвые души", то приближается к ним. По мере движения герои знакомятся с местными жителями и начальниками, оказываются под судом, навещают заброшенное поместье одного из них и вообще всячески развлекаются. Особенно зло и метко описаны местные нравы и обычаи провинции: мелкие чиновники, больше всего боящиеся, "как бы чего не вышло", полусумасшедшие изобретатели, пройходи-торгаши, которые держат в кулаке всю деревню. И тут, если смотреть сквозь осколок, тоже ничего особенного не изменилось, кроме разве масштабов бедствия. Попадаются и вовсе гениальные моменты, которые без малейших скидок применимы к современности. Например, прекрасное описание, как в городе Кашине делают местное вино:
"Оказалось, что никаких виноградников в Кашине нет, а виноделие производится в принадлежащих виноделам подвалах и погребах. Процесс выделки изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются, в определенной пропорции, астраханский чихирь и вода. Подходящую воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина: на мадеру — столько-то патоки, на малагу — дегтя, на рейнвейн — сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза — выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля) ; плюнет три раза — выйдет дреймадера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя). Точно так же малага: просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этом случайно плюнет высокопоставленное лицо, то выйдет Cabinet-Auslass, то есть лучше не надо. Таковы кашинские вина".
Все, что вы не хотели знать об импортозамещении, краткий курс)) В Питере, видимо, сыр делают по этому принципу, судя по результатам.
В общем, "Идиллия" - чтение одновременно забавное и угнетающее.
Сказки Щедрина значительно веселее, и не только потому, что короче. Дело в том, что в "Идиллии" автор был скован косноязычностью языка и разума героя-повествователя, а в сказках говорит уже за себя, и слог его в основном гораздо чище и лучше. Кстати, заметила забавный момент: Щедрин был первым мастером своего века в той области, в которой сейчас старательно делает карьеру Сорокин, а именно пародийного канцелярита. Но если у Сорокина другого голоса просто нет, то у Щедрина их в достатке, хотя пародийный канцелярит и удается ему отлично, и изряное число сказок написаны именно так. Впрочем, от такого слога быстро устаешь, быстрее, чем успеваешь оценить прилежность автора.
Я смотрю как ребенок, может, но меня правда развлекают сказки про животных, которые погрязли в бюрократии, как люди. "Медведь на воеводстве", скажем - вообще лучшая типология плохих начальников, что я видела, исчерпывающее описание, как не надо делать. Вообще хороши только те истории, где Щедрин не берется воспитывать и наставлять сам, а позволяет делать это событиям и характерам, которых более чем достаточно. Назидательного же рода сказки, как и все назидательное, довольно скучны. Зато его "лесной" гротест решительно прекрасен, и "Орел-меценат", и "Чижиково горе" ну сильно жизненны))
Щедрин все-таки удивительный писатель: ни в ком больше нет столько злобы и столько прозорливости вместе. Он мог бы стать, пожалуй, великим мирововым классиком формата Тостого и Достоевского, не будь в нем столько прозорливости - это отталкивает, как всякая *неприятная правда*, русских, а иностранцам и вовсе непонятна, наверное. Щедрина нельзя поймать на лжи: все, о чем он пишет, существует. Но все же остается вполне справедливое впечатление, что это рассказ Кая, которому попал в глаза осколок волшебного зеркала: все уродливое, глупое и отвратительное становится очень заметным, выпирает, заявляет о себе, - а кроме этого, ничего и нет. Вопрос о том, действительно ли кроме этого ничего нет - это вопрос, которым задается вечный противник Щедрина, Достоевский, и так удачно отвечает, что именно своим ответом заслуживает место среди мировых классиков. Зрение Щедрина, пусть и более точное, и более ограниченное; это такой негативный микроскоп. Временами глядеть в него полезно, но не стоит делать это постоянно, а то захочется выйти в окно.
"Идиллия" начинается как злая пародия: два не обремененные житейскими проблемами молодые человека решают стать "благонадежными", что в контексте и их времени, и любого времени означает приобретение двух качеств: непроходимой душевной тупости и чинопочитания. Они перестают читать, думать, занимаются сутками только вопросами еды, заводят дружбу с квартальными надзирателями и проникаются духом такой феерической пошлости и глупости, что невольно удивляешься, как им удалось. Героям очень быстро удается освинячиться почти до крайности, при этом сохраняя внешний вид полноценных граждан, и местное полицейское начальство, конечно, чуть ли не ставит их в пример. Все это скорее противно, чем смешно, но занимательно. С другой стороны, таких людей без всяких усилий вполне достаточно, увы, и достаточно было во все времена, и, конечно, они ни на секунду не задумываются, что это с ними не так. Щедрин подает это "облагонадеживание" очень тонко, но так точно, что его реалии можно переложить на реалии современные, или СССР, или 18 века, без малейших затруднений, но при этом, увы, нельзя составить точный список того, что является признаками этой пошлости (кроме глупости, демонстративной необразованности и лебезения перед власть предержащими).
Кажется, в гранях этого падения и пройдет весь роман, и они довольно быстро наскучивают - но во второй половине текст поворачивает в неожиданную сторону: герои отправляются в путешествие по России. Ну как, в путешествие. Сначала их занесло в один городишко Тверской губернии, потом в другой. Но в описании путешествия пародийность переходит совсем уже в фарс и гротеск, и сочетанием безумия и типажности эта часть если не уделывает "Мертвые души", то приближается к ним. По мере движения герои знакомятся с местными жителями и начальниками, оказываются под судом, навещают заброшенное поместье одного из них и вообще всячески развлекаются. Особенно зло и метко описаны местные нравы и обычаи провинции: мелкие чиновники, больше всего боящиеся, "как бы чего не вышло", полусумасшедшие изобретатели, пройходи-торгаши, которые держат в кулаке всю деревню. И тут, если смотреть сквозь осколок, тоже ничего особенного не изменилось, кроме разве масштабов бедствия. Попадаются и вовсе гениальные моменты, которые без малейших скидок применимы к современности. Например, прекрасное описание, как в городе Кашине делают местное вино:
"Оказалось, что никаких виноградников в Кашине нет, а виноделие производится в принадлежащих виноделам подвалах и погребах. Процесс выделки изумительно простой. В основание каждого сорта вина берется подлинная бочка из-под подлинного вина. В эту подлинную бочку наливаются, в определенной пропорции, астраханский чихирь и вода. Подходящую воду доставляет река Кашинка, но в последнее время дознано, что река Которосль (в Ярославле) тоже в изобилии обладает хересными и лафитными свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняет от бочки надлежащим запахом, тогда приступают к сдабриванию его. На бочку вливается ведро спирта, и затем, смотря по свойству выделываемого вина: на мадеру — столько-то патоки, на малагу — дегтя, на рейнвейн — сахарного свинца и т. д. Эту смесь мешают до тех пор, пока она не сделается однородною, и потом закупоривают. Когда вино отстоится, приходит хозяин или главный приказчик и сортирует. Плюнет один раз — выйдет просто мадера (цена 40 к.); плюнет два раза — выйдет цвеймадера (цена от 40 коп. до рубля) ; плюнет три раза — выйдет дреймадера (цена от 1 р. 50 к. и выше, ежели, например, мадера столетняя). Точно так же малага: просто малага, малага vieux и малага très vieux, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hochheimer и Johannisberger. Но ежели при этом случайно плюнет высокопоставленное лицо, то выйдет Cabinet-Auslass, то есть лучше не надо. Таковы кашинские вина".
Все, что вы не хотели знать об импортозамещении, краткий курс)) В Питере, видимо, сыр делают по этому принципу, судя по результатам.
В общем, "Идиллия" - чтение одновременно забавное и угнетающее.
Сказки Щедрина значительно веселее, и не только потому, что короче. Дело в том, что в "Идиллии" автор был скован косноязычностью языка и разума героя-повествователя, а в сказках говорит уже за себя, и слог его в основном гораздо чище и лучше. Кстати, заметила забавный момент: Щедрин был первым мастером своего века в той области, в которой сейчас старательно делает карьеру Сорокин, а именно пародийного канцелярита. Но если у Сорокина другого голоса просто нет, то у Щедрина их в достатке, хотя пародийный канцелярит и удается ему отлично, и изряное число сказок написаны именно так. Впрочем, от такого слога быстро устаешь, быстрее, чем успеваешь оценить прилежность автора.
Я смотрю как ребенок, может, но меня правда развлекают сказки про животных, которые погрязли в бюрократии, как люди. "Медведь на воеводстве", скажем - вообще лучшая типология плохих начальников, что я видела, исчерпывающее описание, как не надо делать. Вообще хороши только те истории, где Щедрин не берется воспитывать и наставлять сам, а позволяет делать это событиям и характерам, которых более чем достаточно. Назидательного же рода сказки, как и все назидательное, довольно скучны. Зато его "лесной" гротест решительно прекрасен, и "Орел-меценат", и "Чижиково горе" ну сильно жизненны))
пятница, 20 января 2017
Шпенглер & Инститорис
Чем больше читаю Газданова, тем яснее замечаю, что он все время говорит на один голос, причем голос этот принадлежит мужчине без возраста и даже, можно сказать, без определенного пола. Во всяком случае, ярко выраженных "мужских" черт и интересов в его текстах нет, а есть скорее какое-то бесполое умиротворение и даосская равнодушная наблюдательность. Точно так же с возрастом: газданвские рассуждения и рефлексию можно приписать человеку и 20 лет (при условии, что он умен и хорошо образован), и 50-ти. Что больше всего отличает их, так это некоторая вялость, отсутствие ярко выраженного интереса и инициативы не просто жить, а активно участвовать в происходящем и самому двигать какие-то события.
В "Возвращении Будды" это проявляется острее всего. Прикрываясь своей душевной болезнью, герой не живет, а плывет по течению. Вроде бы он студент и учится где-то в университете, но чему именно он учится, на какие лекции ходит и сдает ли экзамены, мы так и не узнаем. У него нет ни женщины, ни постоянного круга друзей - учитывая, что ближе всех он неожиданно сходится с пожилым нищим, внезапно разбогатевшим. Заодно, впрочем, у него нет никаких связей и обязательств, которые дергали бы его, тормошили и не давали закиснуть. И в этом своем мирке рано постаревший для 23 или около того лет герой варится, проводя время за необязательным фрилансом, невнятным университетом, а больше всего - разговорами в кафе со случайными людьми. Ровно до тех пор, пока не оказывается в центре настоящей детективной истории с убийством.
Впрочем, ждать от детективной истории многого не стоит: она вполне в духе Газданова, то есть очень медленная, плавная, с подробным объяснением даже не самих событий, а психологической подоплеки всех этих событий, которое, безусловно, делает честь Газданову, как душеведу, но сводят на нет весь психологический накал. Достоевский мог бы сделать из этого великолепную и страшную драму в духе "Братьев Карамазовых", но у Газданова все идет так же ровно и спокойно, не важно, убили или не убили, поймали или не поймали. До сих пор единственной газдановской вещью, удивившей меня именно в сюжетном плане, остается "Полет", все остальные же со всеми перипетиями сюжета кажутся "только равниной". И это не в укор автору сказано, а как констатацияф факта.
Впрочем, читать и слушать его неизменно приятно: пишет газданов прекрасно, очень гладко, практически безупречно, и рассуждения его все умны и точны (не считая того только, что в основном те герои не стоят и таких рассуждений), но главное все же в нем вовсе и не содержание, а эта убаюкивающая медитативность текста, от которого, несмотря на это, не устаешь.
В "Возвращении Будды" это проявляется острее всего. Прикрываясь своей душевной болезнью, герой не живет, а плывет по течению. Вроде бы он студент и учится где-то в университете, но чему именно он учится, на какие лекции ходит и сдает ли экзамены, мы так и не узнаем. У него нет ни женщины, ни постоянного круга друзей - учитывая, что ближе всех он неожиданно сходится с пожилым нищим, внезапно разбогатевшим. Заодно, впрочем, у него нет никаких связей и обязательств, которые дергали бы его, тормошили и не давали закиснуть. И в этом своем мирке рано постаревший для 23 или около того лет герой варится, проводя время за необязательным фрилансом, невнятным университетом, а больше всего - разговорами в кафе со случайными людьми. Ровно до тех пор, пока не оказывается в центре настоящей детективной истории с убийством.
Впрочем, ждать от детективной истории многого не стоит: она вполне в духе Газданова, то есть очень медленная, плавная, с подробным объяснением даже не самих событий, а психологической подоплеки всех этих событий, которое, безусловно, делает честь Газданову, как душеведу, но сводят на нет весь психологический накал. Достоевский мог бы сделать из этого великолепную и страшную драму в духе "Братьев Карамазовых", но у Газданова все идет так же ровно и спокойно, не важно, убили или не убили, поймали или не поймали. До сих пор единственной газдановской вещью, удивившей меня именно в сюжетном плане, остается "Полет", все остальные же со всеми перипетиями сюжета кажутся "только равниной". И это не в укор автору сказано, а как констатацияф факта.
Впрочем, читать и слушать его неизменно приятно: пишет газданов прекрасно, очень гладко, практически безупречно, и рассуждения его все умны и точны (не считая того только, что в основном те герои не стоят и таких рассуждений), но главное все же в нем вовсе и не содержание, а эта убаюкивающая медитативность текста, от которого, несмотря на это, не устаешь.
воскресенье, 15 января 2017
Шпенглер & Инститорис
"Приключения Васи Куролесова" - любимая с детства и до дыр зачитанная книжка. Много лет я даже не задавалась вопросом, что у нее есть автор и как его зовут (с книжками, которые читаешь лет в 10, это нормально, кажется). Притом, что местами знаю ее наизусть и очень живо все там описанное представляю. И только читая уже относительно недавно что-то другое у Коваля, с забавной глупостью обнаружила, что Васю-то Куролесова, оказывается, тоже он.
За годы текст не потерял своей прелести (что, увы, бывает со многими любимыми в детстве книгами) - и, думаю, потому, что написан он действительно бесподобно. Коваль вообще обладает этим волшебным даром выражаться коротко, емко и очень смешно. Причем "смешно" достигается не за счет специальных попыток пошутить, а за счет какой-то удивительной точности в наблюдании обычных по сути, но смешных для внимательного взгляда явлений. При этом в нем не чувствуется никакой натужности, ни малейших попыток "написать смешно", красиво или вычурно.
Очаровательный "сельский детский детектив" про молодого парня из деревни, доблестную милицию и бандитов районного масштаба. Очень весело и ненавязчиво обыгрывающий детективные (и не только) общие места серьезных произведений того времени, но не пародирует их специально. В повестях о Васе Куролесове создается своеобразная "карманная" реальность - небольшой город Карманов где-то в Подмосковье, деревня Сычи и прочие забавные деревушки при нем, даже Москва из последней повести очень уютная и камерная, напоминающая по ощущениям "От красных ворот".
"Промах гражданина Лошакова" - чуть более "взрослая" повесть. Действие происходит непосредственно после "Приключений", Вася мечется между работой механизатором в деревне и желанием служить в милиции, а пока подвизается у стражей порядка на общественных началах. Эта история так же комическая, но комизм рассчитан скорее на взрослого читателя, чем на ребенка - хотя и умным детям должно быть хорошо. Особенно дивна история про любовь и соленые огурцы, пока читаешь, вне зависимости от того, как ты относишься к соленым огурцам - нестерпимо начинает их хотеться.
Зато "Пять похищенных монахов" - чуть более "детская", чем другие повести. И дело даже не в том, что героями-рассказчиками в данном случае выступают два брата, младший из которых явно представляет самого автора, а старший - соответственно, его старшего брата. За счет этого и борьба с преступниками, и сама детективная завязка носят несколько "облегченный", нестрашный характер. Пожалуй, в этой повести чуть меньше активного действия, зато гораздо больше - потрясающего уюта и света, ощущение, создаваемое описанием детства в старых московских дворах, которого ни у кого не было, но всем очень хотелось. Знаете, такое хрестоматийно-хорошее детство, без соплей и пионерии, со своеобразным, но родным и хорошо знакомым населением своего дома и района, большой самостоятельностью и увлечениями. История разворачивается вокруг кражи у старшего брата домашних голубей, и Вася Куролесов подключается далеко не сразу, но зато как появляется, уже видно, что он заматерел и вырос. Кому нравится "От красных ворот" - в этой повести такая же атмосфера и она забавна именно в таком же ключе.
Повести о Васе Куролесове, несмотря и на единых персонажей, и на сходство в комическо-детективной части, как ни странно, довольно разные, хотя это различие и не очевидно поначалу. Что неизменно - совершенно изумительный язык и точность формулировок, складывается впечатление, что Коваль даже инструкцию к пылесосу мог бы написать так, чтобы ее потом цитировали поколениями. И главное, ведь все его забавные замечания - чистая правда:
"К вечеру мы как-то поглупели. Я давно заметил, что люди немного глупеют к вечеру. Днем еще как-то держатся, а к вечеру глупеют прямо на глазах: часами смотрят телевизоры, много едят".
За годы текст не потерял своей прелести (что, увы, бывает со многими любимыми в детстве книгами) - и, думаю, потому, что написан он действительно бесподобно. Коваль вообще обладает этим волшебным даром выражаться коротко, емко и очень смешно. Причем "смешно" достигается не за счет специальных попыток пошутить, а за счет какой-то удивительной точности в наблюдании обычных по сути, но смешных для внимательного взгляда явлений. При этом в нем не чувствуется никакой натужности, ни малейших попыток "написать смешно", красиво или вычурно.
Очаровательный "сельский детский детектив" про молодого парня из деревни, доблестную милицию и бандитов районного масштаба. Очень весело и ненавязчиво обыгрывающий детективные (и не только) общие места серьезных произведений того времени, но не пародирует их специально. В повестях о Васе Куролесове создается своеобразная "карманная" реальность - небольшой город Карманов где-то в Подмосковье, деревня Сычи и прочие забавные деревушки при нем, даже Москва из последней повести очень уютная и камерная, напоминающая по ощущениям "От красных ворот".
"Промах гражданина Лошакова" - чуть более "взрослая" повесть. Действие происходит непосредственно после "Приключений", Вася мечется между работой механизатором в деревне и желанием служить в милиции, а пока подвизается у стражей порядка на общественных началах. Эта история так же комическая, но комизм рассчитан скорее на взрослого читателя, чем на ребенка - хотя и умным детям должно быть хорошо. Особенно дивна история про любовь и соленые огурцы, пока читаешь, вне зависимости от того, как ты относишься к соленым огурцам - нестерпимо начинает их хотеться.
Зато "Пять похищенных монахов" - чуть более "детская", чем другие повести. И дело даже не в том, что героями-рассказчиками в данном случае выступают два брата, младший из которых явно представляет самого автора, а старший - соответственно, его старшего брата. За счет этого и борьба с преступниками, и сама детективная завязка носят несколько "облегченный", нестрашный характер. Пожалуй, в этой повести чуть меньше активного действия, зато гораздо больше - потрясающего уюта и света, ощущение, создаваемое описанием детства в старых московских дворах, которого ни у кого не было, но всем очень хотелось. Знаете, такое хрестоматийно-хорошее детство, без соплей и пионерии, со своеобразным, но родным и хорошо знакомым населением своего дома и района, большой самостоятельностью и увлечениями. История разворачивается вокруг кражи у старшего брата домашних голубей, и Вася Куролесов подключается далеко не сразу, но зато как появляется, уже видно, что он заматерел и вырос. Кому нравится "От красных ворот" - в этой повести такая же атмосфера и она забавна именно в таком же ключе.
Повести о Васе Куролесове, несмотря и на единых персонажей, и на сходство в комическо-детективной части, как ни странно, довольно разные, хотя это различие и не очевидно поначалу. Что неизменно - совершенно изумительный язык и точность формулировок, складывается впечатление, что Коваль даже инструкцию к пылесосу мог бы написать так, чтобы ее потом цитировали поколениями. И главное, ведь все его забавные замечания - чистая правда:
"К вечеру мы как-то поглупели. Я давно заметил, что люди немного глупеют к вечеру. Днем еще как-то держатся, а к вечеру глупеют прямо на глазах: часами смотрят телевизоры, много едят".
Шпенглер & Инститорис
С удивлением обнаружила, что Кузмин, к всему прочему, прекрасный критик. Прекрасный в самом классическом смысле этого слова: умный, тонкий, с чувством юмора и без излишней восторженности (не считая случаев, когда он заговаривает про своего ненаглядного Юркуна - это бесит, но, слава богу, случается не так часто. по отзывам посторонних тот Юркун был чуть ли не полуграмотным, кстати). При этом его интересно читать совершенно вне зависимости от предмета исследования: из содержания самих статей, очерков и рецензий и так, в принципе, все понятно. Тем более, что статьи в основном маленькие, для печати в газетах, одна-две страницы.
Самое лучшее - это, конечно, заметки о современной Кузмину русской литературе, то есть о Серебряном веке и советских авторах 20-30-х годов. В отличие от многих других подобных произведений, статьи Кузмина очень профессиональны: он собирается говорить о литературе и говорит о литературе, а не о том, как они с автором валялись пьяные в кустах в 1905 году. К тому же они лишены и ученического восторга, и конкурентного скептицизма, и при этом совершенно не "беззубые": при желании Кузмин критикует очень смешно и едко, но нет совершенно ощущения, что им руководят какие-то личные пристрастия.
Помимо статей о современной русской литературе, довольно много статей и очерков и о литературе более ли менее отдаленной - про Анатоля Франса, Анри де Ренье (которого Кузмин потом много переводил), Шиллере и тд. С точки зрения историка того периода они представляют, пожалуй, меньший интерес, но с точки зрения лит. критики все еще очень хороши.
Огромное количество рецензий и очерков посвящено театру, в основном это отзывы на конкретные постановки. Что делать, автору хотелось есть и он, наверняка, не думал, что кому-нибудь придет это в голову читать позднее, чем через пару недель после выхода спектакля, тем более через сто лет. Кузмин постоянно сотрудничал с разными периодическими изданиями именно как театральный критик, и кто ничего не знал о театре того времени (как я), тот узнает из этой книги куда больше, чем хотел бы. Видно, впрочем, что помимо денег, явно была и личная увлеченность автора - потому что судя по периодичности выхода статей, он должен был посещать театр как минимум раз в неделю, а то и чаще, причем разные постановки одних и тех же пьес. Увы, совместные усилия мамы, бабушки и Иркутского драмтеатра им.Охлопкова навсегда внушили мне ненависть к театру, поэтому я при всем желании не смогла заинтересоваться предметом. (Даже Макдонах мне нравится только в виде текста, а исполнение нашего БДТ ужасно). Так что не знаю, кому могут быть интересны театральные рецензии: историкам театра того периода, разве. Или окончательно упоровшимся по Кузмину, как я. Потому что если отвлечься от самого предмета, т.е. конкретных пьес, актеров, режиссеров, театров, декораторов - написаны они и прекрасно, и забавно.
Кстати, заметно, как бедный Кузмин пытается подстроиться под требования времени в рецензиях советского периода. В целом оставаясь все тем же ехидным и наблюдательным критиком, но при этом периодически вставляя словечки типа "вредный", "буржуазный" и очень убедительно объясняя, почему оперетка - революционный жанр.
Помимо вышеиописанного, мой сборник включает в себя некоторое количество предисловий, некрологов и всего подобного - в той части, в которой они касаются литературы, они хороши и интересны, в той части, в которой не касаются - просто хороши :-)
Самое лучшее - это, конечно, заметки о современной Кузмину русской литературе, то есть о Серебряном веке и советских авторах 20-30-х годов. В отличие от многих других подобных произведений, статьи Кузмина очень профессиональны: он собирается говорить о литературе и говорит о литературе, а не о том, как они с автором валялись пьяные в кустах в 1905 году. К тому же они лишены и ученического восторга, и конкурентного скептицизма, и при этом совершенно не "беззубые": при желании Кузмин критикует очень смешно и едко, но нет совершенно ощущения, что им руководят какие-то личные пристрастия.
Помимо статей о современной русской литературе, довольно много статей и очерков и о литературе более ли менее отдаленной - про Анатоля Франса, Анри де Ренье (которого Кузмин потом много переводил), Шиллере и тд. С точки зрения историка того периода они представляют, пожалуй, меньший интерес, но с точки зрения лит. критики все еще очень хороши.
Огромное количество рецензий и очерков посвящено театру, в основном это отзывы на конкретные постановки. Что делать, автору хотелось есть и он, наверняка, не думал, что кому-нибудь придет это в голову читать позднее, чем через пару недель после выхода спектакля, тем более через сто лет. Кузмин постоянно сотрудничал с разными периодическими изданиями именно как театральный критик, и кто ничего не знал о театре того времени (как я), тот узнает из этой книги куда больше, чем хотел бы. Видно, впрочем, что помимо денег, явно была и личная увлеченность автора - потому что судя по периодичности выхода статей, он должен был посещать театр как минимум раз в неделю, а то и чаще, причем разные постановки одних и тех же пьес. Увы, совместные усилия мамы, бабушки и Иркутского драмтеатра им.Охлопкова навсегда внушили мне ненависть к театру, поэтому я при всем желании не смогла заинтересоваться предметом. (Даже Макдонах мне нравится только в виде текста, а исполнение нашего БДТ ужасно). Так что не знаю, кому могут быть интересны театральные рецензии: историкам театра того периода, разве. Или окончательно упоровшимся по Кузмину, как я. Потому что если отвлечься от самого предмета, т.е. конкретных пьес, актеров, режиссеров, театров, декораторов - написаны они и прекрасно, и забавно.
Кстати, заметно, как бедный Кузмин пытается подстроиться под требования времени в рецензиях советского периода. В целом оставаясь все тем же ехидным и наблюдательным критиком, но при этом периодически вставляя словечки типа "вредный", "буржуазный" и очень убедительно объясняя, почему оперетка - революционный жанр.
Помимо вышеиописанного, мой сборник включает в себя некоторое количество предисловий, некрологов и всего подобного - в той части, в которой они касаются литературы, они хороши и интересны, в той части, в которой не касаются - просто хороши :-)
суббота, 07 января 2017
Шпенглер & Инститорис
"Картонный домик" - совершенно потрясающий по исполнению и накалу рассказ. Посвящается всем, кого бросали "на разбеге" влюбленности, в первые недели-месяцы то есть, причем ничего не объясняя, как бы не считая себя связанными. Изумительно выписано соотношение "личного" и "общего" планов, с одной стороны, начало романа героев, с другой - их общий круг общения, разговоры, встречи, как все это переплетается. Только в плохих романах герои живут в вакууме, а в жизни-то так обычно и бывает: общая компания, все более ли менее на виду. И человек, которого внезапно бросили, который, по сути, не был еще даже "официально" несвободен (хотя сам себя таковым и считал) пытается, с одной стороны, это пережить, а с другой - уязвленное самолюбие заставляет "сохранять лицо" и делать вид при общих знакомых, что все это не важно, хотя на самом деле важно. И отдельно - проблема соперника, с которым не можешь соперничать, знает только тот, кто сам проходил.
"Нежный Иосиф" - какая-то странная, малопонятная повесть. За 150 страниц я, признаюсь, так и не разобралась, кто кому кем приходится и к чему были все эти интриги с какими-то бумагами. Манера называть персонажей то по имени-отчеству, то по произвищу раздражает, потому что и без того эту толпу всю не запомнить. Впрочем, религиозный экстаз невинной дружбы, к которому приходим в конце, кажется еще менее понятным. Единственное, что задело во всем тексте - самоубийство писателя Адвентова, та же авторская фигура, тот же расклад "соперника (точнее, соперницы), с которым не можешь сравниться", только в более трагическом варианте. Впрочем, и это все как-то смазанно и мельком. За что все любят эту неповоротливую тушу, барчука Иосифа, который даже по тексту оставляет впечатление доброго глупого теленка, никак не могу понять.
"Высокое искусство" - трагикомический рассказ из жизни современной Кузмину питерской литературной "тусовки". Очень точно и хорошо написанный и в целом скорее забавный, несмотря на финал. Кузмину очень хорошо удаются образы глупых и зловредных женщин, собственно, почти каждый женский персонаж у него - либо глупый, либо зловредный, либо и то, и другое вместе. Симпатичных женских образов я не видела (не считая какой-нибудь бесполой моли Сони из "Иосифа", например). Это малоудивительно, конечно, но все равно забавно. Так и здесь - отлично выведен образ девицы "с идеями", которая своими требованиями и выдумками довела мужа.
"Нечаянный провиант" - тоже трагикомическая история, из серии "случайно услышанного в дороге". Собственно, историю с таким сюжетом мог бы написать любой автор 19 - начала 20 века, она простая, изящная и вполне в духе "русских страшных историй". У Кузмина навреняка сказалась любовь к Лескову, потому что вообще-то это совсем не его жанр. Впрочем, удалось емуотлично, а личным кузминским вкладом было перенесение акцента с сюжетной составляющей на детали и психологию (что при таком сюжете непросто, но не буду спойлерить).
"Опасный страж". Поучительная история для юных девиц, или почему надо изо всех сил сопротивляться, когда маменька, якобы желая добра, пытается влезть в твои любовные дела. Прекрасно в деталях, довольно злобно и неприятно по существу, но в целом вполне достоверно выглядит. Опять же к вопросу о глупых и зловредных женщинах.
"Мечтатели". Собственно, это те же "Плавающие-путешествующие", только без "богемной" составляющей, а в остальном: та же драма людей, не знающих, куда себя деть от скуки. Воистину, скука смертный грех, учитывая, как они на пустом месте из-за нее рушат свои и чужие жизни. Повесть начинается с тобой, что женятся две милых молодых пары, и все-то у них хорошо: и любовь вроде бы есть, и отношения с родственниками отличные, и денег достаточно, чтобы никто толком не работал, кажется, живи и радуйся. Проблема лишь в том, что девочки и мальчики совершенно не представляют, что делать с этой новоявленной "взрослой" свободой и серьезной уже собственной жизнью. И, конечно, не могут получать удовольствие ни от своих счастливых отношений, ни от своего достатка - они ведь не приложили к этому ни малейших усилий, и воспринимают все for granted. До свадьбы все четверо мечтали, что вот там будет некая волшебная самостоятельная жизнь, а оказалось, что ничего такого особенно волшебного-то и не происходит, и спутник, которого они выбрали, уже через пару месяцев опротивел, и вообще "скучно, скучно". Этот бесконечный рефрен переростков-инфантилов, не знающих, чем себя занять, повторяется в повести очень частно и, собственно, служит причиной для всех драм. Желание хоть какой-нибудь интригой украсить свою спокойную устроенную жизнь заставляет их смотреть налево, а вовсе не искренние чувства к кому-то постороннему. Откровенно говоря, глядя на этих скучающих трутней, невольно благословляешь Октябрьскую революцию, которая если и не дала подобным людям некоторые ориентиры, то по крайней мере для многих закрыла вопрос, что бы такого еще выкинуть, лишь бы не скучать. Мне как записному трудоголику и любителю стабильности подобные скучающие люди одновременно непонятны и очень противны.
"Нежный Иосиф" - какая-то странная, малопонятная повесть. За 150 страниц я, признаюсь, так и не разобралась, кто кому кем приходится и к чему были все эти интриги с какими-то бумагами. Манера называть персонажей то по имени-отчеству, то по произвищу раздражает, потому что и без того эту толпу всю не запомнить. Впрочем, религиозный экстаз невинной дружбы, к которому приходим в конце, кажется еще менее понятным. Единственное, что задело во всем тексте - самоубийство писателя Адвентова, та же авторская фигура, тот же расклад "соперника (точнее, соперницы), с которым не можешь сравниться", только в более трагическом варианте. Впрочем, и это все как-то смазанно и мельком. За что все любят эту неповоротливую тушу, барчука Иосифа, который даже по тексту оставляет впечатление доброго глупого теленка, никак не могу понять.
"Высокое искусство" - трагикомический рассказ из жизни современной Кузмину питерской литературной "тусовки". Очень точно и хорошо написанный и в целом скорее забавный, несмотря на финал. Кузмину очень хорошо удаются образы глупых и зловредных женщин, собственно, почти каждый женский персонаж у него - либо глупый, либо зловредный, либо и то, и другое вместе. Симпатичных женских образов я не видела (не считая какой-нибудь бесполой моли Сони из "Иосифа", например). Это малоудивительно, конечно, но все равно забавно. Так и здесь - отлично выведен образ девицы "с идеями", которая своими требованиями и выдумками довела мужа.
"Нечаянный провиант" - тоже трагикомическая история, из серии "случайно услышанного в дороге". Собственно, историю с таким сюжетом мог бы написать любой автор 19 - начала 20 века, она простая, изящная и вполне в духе "русских страшных историй". У Кузмина навреняка сказалась любовь к Лескову, потому что вообще-то это совсем не его жанр. Впрочем, удалось емуотлично, а личным кузминским вкладом было перенесение акцента с сюжетной составляющей на детали и психологию (что при таком сюжете непросто, но не буду спойлерить).
"Опасный страж". Поучительная история для юных девиц, или почему надо изо всех сил сопротивляться, когда маменька, якобы желая добра, пытается влезть в твои любовные дела. Прекрасно в деталях, довольно злобно и неприятно по существу, но в целом вполне достоверно выглядит. Опять же к вопросу о глупых и зловредных женщинах.
"Мечтатели". Собственно, это те же "Плавающие-путешествующие", только без "богемной" составляющей, а в остальном: та же драма людей, не знающих, куда себя деть от скуки. Воистину, скука смертный грех, учитывая, как они на пустом месте из-за нее рушат свои и чужие жизни. Повесть начинается с тобой, что женятся две милых молодых пары, и все-то у них хорошо: и любовь вроде бы есть, и отношения с родственниками отличные, и денег достаточно, чтобы никто толком не работал, кажется, живи и радуйся. Проблема лишь в том, что девочки и мальчики совершенно не представляют, что делать с этой новоявленной "взрослой" свободой и серьезной уже собственной жизнью. И, конечно, не могут получать удовольствие ни от своих счастливых отношений, ни от своего достатка - они ведь не приложили к этому ни малейших усилий, и воспринимают все for granted. До свадьбы все четверо мечтали, что вот там будет некая волшебная самостоятельная жизнь, а оказалось, что ничего такого особенно волшебного-то и не происходит, и спутник, которого они выбрали, уже через пару месяцев опротивел, и вообще "скучно, скучно". Этот бесконечный рефрен переростков-инфантилов, не знающих, чем себя занять, повторяется в повести очень частно и, собственно, служит причиной для всех драм. Желание хоть какой-нибудь интригой украсить свою спокойную устроенную жизнь заставляет их смотреть налево, а вовсе не искренние чувства к кому-то постороннему. Откровенно говоря, глядя на этих скучающих трутней, невольно благословляешь Октябрьскую революцию, которая если и не дала подобным людям некоторые ориентиры, то по крайней мере для многих закрыла вопрос, что бы такого еще выкинуть, лишь бы не скучать. Мне как записному трудоголику и любителю стабильности подобные скучающие люди одновременно непонятны и очень противны.
понедельник, 02 января 2017
Шпенглер & Инститорис
После прекрасного стиля Кузмина Достоевского поначалу очень тяжело читать - настолько он многословный, некрасивый и путаный. Впрочем, мы любим ФМ не за это. Но первые месяцы я просто продиралась, притом, что и преобладающая тематика - война с Турцией, отношения с Европой - мне неинтересно. Ну то есть как - были бы интересны, если бы не были так актуальны, а то складывается прочное впечатление, что читаешь чей-то фейсбук. Прошло 150 лет, а геополитический расклад не изменился, и Россия все так же защищает угнетаемые народы за границей, а Европа и Турция все так же этому сопротивляются, и в российском обществе все так же находятся люди, оправдывающие это и наоборот. ФМ, кстати, безусловно, относится к первым, и со своим лозунгом "Константинополь должен быть наш" вообще довольно агрессивно смотрится. В нашей интеллигентской тусовке сейчас больше вторых, что характерно - видимо, за 150 лет всем-таки надоело.
Впрочем, среди остальных идей по Восточному вопросу ФМ, которые сегодня кажутся безумными, есть и очень точные наблюдения про братьев-славян. Посмотрите, например, что он пишет про развал СССР и его последствия:
"России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти особожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-либо в своем особом славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человеческой. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды все они непременно обратятся к России за помощью".

Этой настырной геополитике в дневнике 77 года очень много, притом, что ФМ пишет "по горячим следам", попутно переругиваясь с газетами и собственными корреспондентами. Возможно, на это найдутся любители, но на мой вкус, в Дневнике хорошо все то, что не про политику. Про "Анну Каренину" - ровно до тех пор, пока дело не доходит до обсуждения политических взлядов Левина (где тут смайл с фейспалмом). Про актуальные уголовные процессы. Про общество и конкретные человеческие типажи - лучшее, что вообще удается ФМ.
Отсюда, кстати, прекрасный пассаж про "стрюцких" (термин, введенный в литературу самим ФМ и, к сожалению, не прижившийся): "В этом слове для литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым народ обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых, кричащих, неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек. Таких людишек много ведь и в интеллигентных кругах, и в высших кругах - не правда ли? - только не всегда пьяниц и не в порванных сапогах, но в этом часто всё и различие". У ФМ приведено более длинное описание этого типажа, но целиком цитировать страницу несподручно, кому интересно: ноябрь, глава 1, "Что значит слово "стрюцкие"? По сути это ведь идеальный термин для 90% страдальцев и вопильцев из фейбука и иже в ним, от "в Колпино в подвале погибают личинки комаров, будьте людьми, возьмите хотя бы пару тысяч" до политических же воплей от людей, которые не смогут уверенно показать Сирию на карте мира.
В целом, пожалуй, дневник 77 года повеселее 76, но значительно скучнее 73, как-то так)
Впрочем, среди остальных идей по Восточному вопросу ФМ, которые сегодня кажутся безумными, есть и очень точные наблюдения про братьев-славян. Посмотрите, например, что он пишет про развал СССР и его последствия:
"России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти особожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери личности заразятся европейскими формами, политическими и социальными, и таким образом должны будут пережить целый и длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть что-либо в своем особом славянском значении и в своем особом славянском призвании в среде человеческой. Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в минуту какой-нибудь серьезной беды все они непременно обратятся к России за помощью".

Этой настырной геополитике в дневнике 77 года очень много, притом, что ФМ пишет "по горячим следам", попутно переругиваясь с газетами и собственными корреспондентами. Возможно, на это найдутся любители, но на мой вкус, в Дневнике хорошо все то, что не про политику. Про "Анну Каренину" - ровно до тех пор, пока дело не доходит до обсуждения политических взлядов Левина (где тут смайл с фейспалмом). Про актуальные уголовные процессы. Про общество и конкретные человеческие типажи - лучшее, что вообще удается ФМ.
Отсюда, кстати, прекрасный пассаж про "стрюцких" (термин, введенный в литературу самим ФМ и, к сожалению, не прижившийся): "В этом слове для литератора привлекательна сила того оттенка презрения, с которым народ обзывает этим словом именно только вздорных, пустоголовых, кричащих, неосновательных, рисующихся в дрянном гневе своем дрянных людишек. Таких людишек много ведь и в интеллигентных кругах, и в высших кругах - не правда ли? - только не всегда пьяниц и не в порванных сапогах, но в этом часто всё и различие". У ФМ приведено более длинное описание этого типажа, но целиком цитировать страницу несподручно, кому интересно: ноябрь, глава 1, "Что значит слово "стрюцкие"? По сути это ведь идеальный термин для 90% страдальцев и вопильцев из фейбука и иже в ним, от "в Колпино в подвале погибают личинки комаров, будьте людьми, возьмите хотя бы пару тысяч" до политических же воплей от людей, которые не смогут уверенно показать Сирию на карте мира.
В целом, пожалуй, дневник 77 года повеселее 76, но значительно скучнее 73, как-то так)
вторник, 27 декабря 2016
Шпенглер & Инститорис
Кузмин всю жизнь вел дневники, с 1905, если не ошибаюсь, года, причем они изначально были не личные, а предназначались если не к публикации, то к публичному чтению. Дневник 1934 года - последний, чудом сохранившийся после ареста и расстрела Юркуна (которому достался весь архив Кузмина). Он написан за 2 года до смерти и начинается на высокой ноте - примерно тогда Кузмин как раз узнает, что неизлечимо болен, и врачи дают ему как раз два года (заметим, умер он в итоге не от того, чем болел).
Читать интересно и очень грустно, особенно в сравнении с более ранними работами Кузмина - может, мне, конечно, и чудится, но я вижу явные признаки старости, разложения, упадка. Не в интеллектуальной составляющей, тут как раз все прекрасно, и Кузмин в этот период еще вовсю переводил Шекспира для Academia. Скорее в содержательной: область интересов трагически сужается до собственного здоровья, присутствия нескольких близких людей, общения просто ради ощущения, что тебя не забыли. Дневник очень богат описаниями различных встреч, вечеров, посиделок, и несмотря на общее ощущение автора "оставленности", складывается впечатление, что у них там натурально проходной двор был дома. Любителям эпохи имена много скажут и вообще этот дневник будет полезным подпорьем для истории культуры 30-х годов.
Впрочем, более интересная его часть - все-таки воспоминания о делах прошедших, в частности, длинная, из записи в запись идущая серия воспоминаний о "Башне" Вячеслава Иванова. Воспоминания начисто лишены того "возвышенного" флера, который подчас придается всей эпохе и ее представителям учителями литературы и сотрудниками музеев. Зато очень живо и отнюдь не беззлобно характеризуют множество интересных людей и совершенно уж безумные ситуации с ними (чего стоит только женитьба Иванова на собственной падчерице - после того, как тот же гомосексуалист Кузмин в ужасе отказался жениться на ней фиктивно, чтобы придать видимость приличия ее беременности от отчима, за что был вызван ее братом на дуэль (!). В общем, чтение дневника в этой части - вполне легальный способ удовлетворить свою страсть к сплетням))
Кроме этого, конечно, бывают и просто ужасно милые места, например, редкие, но меткие наблюдения за природой. И ужасно точные и едкие характеристики. Несмотря на отсутствие у меня особого интереса к описываемому периоду и упоминаемым людям (кроме самого автора), я все равно получила удовольствие, как от хорошей литературы.
Читать интересно и очень грустно, особенно в сравнении с более ранними работами Кузмина - может, мне, конечно, и чудится, но я вижу явные признаки старости, разложения, упадка. Не в интеллектуальной составляющей, тут как раз все прекрасно, и Кузмин в этот период еще вовсю переводил Шекспира для Academia. Скорее в содержательной: область интересов трагически сужается до собственного здоровья, присутствия нескольких близких людей, общения просто ради ощущения, что тебя не забыли. Дневник очень богат описаниями различных встреч, вечеров, посиделок, и несмотря на общее ощущение автора "оставленности", складывается впечатление, что у них там натурально проходной двор был дома. Любителям эпохи имена много скажут и вообще этот дневник будет полезным подпорьем для истории культуры 30-х годов.
Впрочем, более интересная его часть - все-таки воспоминания о делах прошедших, в частности, длинная, из записи в запись идущая серия воспоминаний о "Башне" Вячеслава Иванова. Воспоминания начисто лишены того "возвышенного" флера, который подчас придается всей эпохе и ее представителям учителями литературы и сотрудниками музеев. Зато очень живо и отнюдь не беззлобно характеризуют множество интересных людей и совершенно уж безумные ситуации с ними (чего стоит только женитьба Иванова на собственной падчерице - после того, как тот же гомосексуалист Кузмин в ужасе отказался жениться на ней фиктивно, чтобы придать видимость приличия ее беременности от отчима, за что был вызван ее братом на дуэль (!). В общем, чтение дневника в этой части - вполне легальный способ удовлетворить свою страсть к сплетням))
Кроме этого, конечно, бывают и просто ужасно милые места, например, редкие, но меткие наблюдения за природой. И ужасно точные и едкие характеристики. Несмотря на отсутствие у меня особого интереса к описываемому периоду и упоминаемым людям (кроме самого автора), я все равно получила удовольствие, как от хорошей литературы.
воскресенье, 25 декабря 2016
Шпенглер & Инститорис
"Крылья". Учитесь, фикрайтеры, как вместить столько эротизма в текст, в котором нет ни одного поцелуя, ни одной сколь-либо приближенной к реальной эротике сцены, зато в избытке скучных разговоров среднего петербургского семейства о том, где бы снять на лето дачу. И содомия как таковая упоминается лишь однажды, и то применительно к гомеровским героям. А все остальное - более, более чем невинно, обычные бытовые сцены, не без доли трагичности, но не играющей особой роли, правда.
"Крылья" очень импрессионистский текст. Сюжет не развивается последовательно и линейно, и каждый отдельный небольшой эпизод скорее запутывает, чем дает ключ к героям и их отношениям, не говоря уж о сюжете вообще, который сложно поймать за хвост. Но чем ближе к концу, тем яснее начинает складываться этот паззл, и появляется полнейшая ясность. Притом, что герои так ни разу и не называют вслух то, что между ними происходит или могло бы происходить. "Вы хотите, чтобы я вам сказал словами?" - очень значимая реплика, которая определяет, собственно, весь роман. Суть "Крыльев" в том, чего в них *словами* не сказано, но более чем очевидно.
Мы привыкли к довольно бесстыжему отображению "проблемы пола" во всех ее вариация в искусстве, и это не то что давно перестало шокировать, а стало наводить уже скуку - в конце концов, не так уж много вариантов раскрытия этой темы, каждый из них, от "они упали на тахту" до высокорейтинговых детализаций - были повторены тысячу раз. А в "Крыльях" в этом плане есть то же, что и в "Портрете художника в юности": у Джойса нет рисования, у Кузмина нет "рейтинга", но при этом текст томительно, просто пронизывающе эротический и совершенно не опошленный никакими деталями.
В самом начале я думала, что мне вместо красивой прозы подсунули какие-то "свинцовые мерзости" русского быта опять, но удивительным образом от смешения этой бытовой достоверности, скрытого эротизма и разговоров об искусстве в конце действительно возникает ощущение "крыльев".
Рассказы и повести Кузмина из "античного" мира очень хороши. В неопределенном времени и пространстве, скажем, Средиземноморья с героями происходят приключения, роднящие плутовской роман с античным романом, мастерски написанные. Причем самое лучшее, что у него есть - это не сюжет даже, а язык, не то чтобы простой, но очень легкий и при этом красочный, от его длинных периодов ничуть не устаешь.
Но самое изумительное - это "Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро". Это, конечно, не настоящая биография знаменитого мага и шарлатана и даже не беллетризированная - скорее, фантазия на тему, но фантазия настолько удачная и настолько мастерски выполненная, что гораздо лучше любой реальности. В начале Кузмин пишет, что ставил своей задачей восстановить, если выражаться с профессиональным перекосом юриста, не букву, а дух истории Калиостро - и ему это вполне удалось. Жаль, что остальные задуманные биографии в серии "Новый Плутарх" не осуществились.
"Плавающие-путешествующие" - забавная, хотя местами и довольно злобная пародия на петербургскую богему 1910-х годов, этакий полусвет, не слишком богатых, но все же ничем не занятых дворян, от скуки посещающих некий аналог "Бродячей собаки" и заводящих любовные истории, только чтобы убить время. Главный вывод, который я сделала из романа - что скучающая женщина это смерти подобно, потому что она способна превратить жизнь ближних и совсем даже посторонних в такой ад, который никаким фашистам и не снился. Не со зла причем, а просто чтобы развеяться. Все женские персонажи у Кузмина либо совсем никакие, без характера и поступков даже, либо, напротив, капризные истерички. Если в его окружении и правда были только такие, то, действительно, ничего, кроме гомосексуализма, не остается. Да и вообще удивительно, как такие мерзотные, в сущности, женщины могут кого-то привлекать - а между тем окружающие мужчины то и дело теряют от них голову и позволяют им раз за разом вытирать об себя ноги, и ничему-то их жизнь не учит. Можно было бы подумать, что это образ, созданный банальной ревностью к той, с которой не можешь соперничать, - но увы, такие женщины бывают, и часто.
Впрочем, в романе больше все же комического, а не трагического. К примеру, изумительная фигура восторженной нимфоманки Полины, которая воспринимает не только себя, но и всех окружающих через призму воображаемых любовных историй, чем регулярно ставит совершенно неизаинтересованных людей в смешное и неловкое положение.
"Вы должны обещать прийти ко мне. Я живу на Подъяческой. У меня есть красивые материи. Я буду декламировать "Александрийские песни" Кузмина, а ты будете танцевать или просто лежать в позе. Будет много, много цветов. Мы будем задыхаться от них. И наши друзья, только самые близкие друзья, порйдкт, как это прекрасно. К моих знакомых есть коврик из леопардовых шкур, я его достану и он будет служить мне костюмом. Представьте, - только леопардова шкура и больше ничего. Она будет держаться на гирлянде из роз".
Кроме дурацких любовных историй и недо-романов в тексте, по сути, ничего не происходит, но в данном случае важно не что, а как. Несмотря на общую антипатию к каждому персонажу в отдельности, я все же изрядно развлеклась.
Из коротких произведений лучшее, пожалуй, "Печка в бане" - пошловато, но очень смешно.
"Тихий страж" - роман довольно скучный, на мой вкус. 100 страниц ничего не происходит, какие-то вялые разборки между молодым человеком, его любовницей, ее бывшим мужем и прочими домашними. И только в конце неожиданно разворачивается драма чисто достоевского вида, с попыткой убийства, самопожертвованием, почти гибелью героя, в результате которой все остальные герои внезапно "осознают" буквально все - и отношения, формально оставшиеся почти теми же, неуловимо меняются. Впрочем, в отличие от Достоевского, у Кузмина хэппи энд исключительно семейного формата, с некоторым налетом романтизма. Концовка романа хороша, но начало и середина скучны.
"Крылья" очень импрессионистский текст. Сюжет не развивается последовательно и линейно, и каждый отдельный небольшой эпизод скорее запутывает, чем дает ключ к героям и их отношениям, не говоря уж о сюжете вообще, который сложно поймать за хвост. Но чем ближе к концу, тем яснее начинает складываться этот паззл, и появляется полнейшая ясность. Притом, что герои так ни разу и не называют вслух то, что между ними происходит или могло бы происходить. "Вы хотите, чтобы я вам сказал словами?" - очень значимая реплика, которая определяет, собственно, весь роман. Суть "Крыльев" в том, чего в них *словами* не сказано, но более чем очевидно.
Мы привыкли к довольно бесстыжему отображению "проблемы пола" во всех ее вариация в искусстве, и это не то что давно перестало шокировать, а стало наводить уже скуку - в конце концов, не так уж много вариантов раскрытия этой темы, каждый из них, от "они упали на тахту" до высокорейтинговых детализаций - были повторены тысячу раз. А в "Крыльях" в этом плане есть то же, что и в "Портрете художника в юности": у Джойса нет рисования, у Кузмина нет "рейтинга", но при этом текст томительно, просто пронизывающе эротический и совершенно не опошленный никакими деталями.
В самом начале я думала, что мне вместо красивой прозы подсунули какие-то "свинцовые мерзости" русского быта опять, но удивительным образом от смешения этой бытовой достоверности, скрытого эротизма и разговоров об искусстве в конце действительно возникает ощущение "крыльев".
Рассказы и повести Кузмина из "античного" мира очень хороши. В неопределенном времени и пространстве, скажем, Средиземноморья с героями происходят приключения, роднящие плутовской роман с античным романом, мастерски написанные. Причем самое лучшее, что у него есть - это не сюжет даже, а язык, не то чтобы простой, но очень легкий и при этом красочный, от его длинных периодов ничуть не устаешь.
Но самое изумительное - это "Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро". Это, конечно, не настоящая биография знаменитого мага и шарлатана и даже не беллетризированная - скорее, фантазия на тему, но фантазия настолько удачная и настолько мастерски выполненная, что гораздо лучше любой реальности. В начале Кузмин пишет, что ставил своей задачей восстановить, если выражаться с профессиональным перекосом юриста, не букву, а дух истории Калиостро - и ему это вполне удалось. Жаль, что остальные задуманные биографии в серии "Новый Плутарх" не осуществились.
"Плавающие-путешествующие" - забавная, хотя местами и довольно злобная пародия на петербургскую богему 1910-х годов, этакий полусвет, не слишком богатых, но все же ничем не занятых дворян, от скуки посещающих некий аналог "Бродячей собаки" и заводящих любовные истории, только чтобы убить время. Главный вывод, который я сделала из романа - что скучающая женщина это смерти подобно, потому что она способна превратить жизнь ближних и совсем даже посторонних в такой ад, который никаким фашистам и не снился. Не со зла причем, а просто чтобы развеяться. Все женские персонажи у Кузмина либо совсем никакие, без характера и поступков даже, либо, напротив, капризные истерички. Если в его окружении и правда были только такие, то, действительно, ничего, кроме гомосексуализма, не остается. Да и вообще удивительно, как такие мерзотные, в сущности, женщины могут кого-то привлекать - а между тем окружающие мужчины то и дело теряют от них голову и позволяют им раз за разом вытирать об себя ноги, и ничему-то их жизнь не учит. Можно было бы подумать, что это образ, созданный банальной ревностью к той, с которой не можешь соперничать, - но увы, такие женщины бывают, и часто.
Впрочем, в романе больше все же комического, а не трагического. К примеру, изумительная фигура восторженной нимфоманки Полины, которая воспринимает не только себя, но и всех окружающих через призму воображаемых любовных историй, чем регулярно ставит совершенно неизаинтересованных людей в смешное и неловкое положение.
"Вы должны обещать прийти ко мне. Я живу на Подъяческой. У меня есть красивые материи. Я буду декламировать "Александрийские песни" Кузмина, а ты будете танцевать или просто лежать в позе. Будет много, много цветов. Мы будем задыхаться от них. И наши друзья, только самые близкие друзья, порйдкт, как это прекрасно. К моих знакомых есть коврик из леопардовых шкур, я его достану и он будет служить мне костюмом. Представьте, - только леопардова шкура и больше ничего. Она будет держаться на гирлянде из роз".
Кроме дурацких любовных историй и недо-романов в тексте, по сути, ничего не происходит, но в данном случае важно не что, а как. Несмотря на общую антипатию к каждому персонажу в отдельности, я все же изрядно развлеклась.
Из коротких произведений лучшее, пожалуй, "Печка в бане" - пошловато, но очень смешно.
"Тихий страж" - роман довольно скучный, на мой вкус. 100 страниц ничего не происходит, какие-то вялые разборки между молодым человеком, его любовницей, ее бывшим мужем и прочими домашними. И только в конце неожиданно разворачивается драма чисто достоевского вида, с попыткой убийства, самопожертвованием, почти гибелью героя, в результате которой все остальные герои внезапно "осознают" буквально все - и отношения, формально оставшиеся почти теми же, неуловимо меняются. Впрочем, в отличие от Достоевского, у Кузмина хэппи энд исключительно семейного формата, с некоторым налетом романтизма. Концовка романа хороша, но начало и середина скучны.
пятница, 23 декабря 2016
Шпенглер & Инститорис
Знать не знала такого драматурга, пока Р. очень настоятельно не порекомендовал его мне. Впрочем, ничего удивительного: Эрдман активно писал в конце 20-х годов, но потом его судили за антисоветчину, сослали в Енисейск и вернулся в более ли менее цивилизованные места он уже совершенно другим, сломанным человеком, который придумывать придумывал, а писать не смел. Ужасно печальная история, особенно учитывая, насколько хороши его пьесы.
Пьес у него, собственно, всего две - "Самоубийца" и "Мандат". Если можете себе представить, то это помесь Хармса и Зощенко, причем изумительно смешная. Зощенко, честно говоря, с его походом против мешанства и бытовой глупости кажется мне временами слишком скучным и очевидным, Хармс - слишком безумным, а Эрдман - золотая середина. В "Мандате" кое-как устроившиеся представители "буржуазии" (до революции у них был аж магазин) пытаются выдать замуж девицу под предлогом вхождения ее брата в партию и наличием родственников-пролетариев. И то, и другое - чистый блеф, причем неудачный, вокруг всего этого общества возникает целый хоровод таких же глупых впечатлительных и очень комических людей.
"Самоубийца" еще веселее: некий гражданин, повздорив с женой, запирается в сортире, а бестолковая его жена совместно с тещей решают, что он готовится совершить самоубийство, благо причин-то всегда достаточно, если покопать. Весть разносится по округе, и тут же набегают всякие знакомые и незнакомые, представители интеллигенции, торговли, роковые женщины, священник, и все пытаются убедить, чтобы самоубийство было совершено ради их дела, а не просто так - чего добру-то пропадать. Герой, который ничего такого не собирался, начинает поддаваться под их напором. Особенно смешны в этой тусовке роковые женщины числом две, соперничающие за внимание некоего, видимо, состоятельного господина, которого они уже утомили донельзя.
"Она хочет, чтобы он целовал ее тело, она хочет сама целовать его тело, только тело, тело и тело. Я, напротив, хочу обожать его душу, я хочу, чтобы он обожал мою душу, только душу, душу и душу. Заступитесь за душу, господин Подсекальников, застрелитесь из-за меня. Возродите любовь. Возродите романтику. И тогда... Сотни девушек соберутся у вашего гроба, мсье Подсекальников, сотни юношей понесут вас на нежных плечах, и прекрасные женщины..."
В общем, это ужасно смешно, верьте мне.
Интермедии Эрдмана примерно того же толка, но короткие и не столь занятные, на сцене это, впрочем, должно смотреться куда лучше, чем на бумаге.
Очень впечатляет переписка с актрисой Ангелиной Степановой - начавшаяся незадолго до ссылки Эрдмана и продолжавшаяся 7 лет, с 1928 по 35 годы. Степанова причем была его любовницей при живой жене. С художественной точки зрения, собственно, там нет ничего интересного - эти письма писались не для публикации, как многие, да и не письма больше, а короткие открытки. И пишут герои друг другу в основном то, что любят и скучают. Письма Ангелины интересны, пожалуй, историкам театра, т.к. она много рассказывает о своей работе и окружении. Значительная часть писем пропала. При этом Ангелина писала Эрдману каждый день (я серьезно, ну, почти каждый, писем чудовщиное количество) и он так же отвечал, а поскольку письма обоих авторов приведены в хронологическом порядке, видна работа нашей почты: на вопрос, заданный в письме месячной давности, ответ дается только сейчас.
Вообще, стоит подумать об этом, становится ужасно. Любимого человека отправляют в ссылку в тьмутаракань надолго, ты и поехать с ним не можешь (и он не позволит первым делом), и бросить его не можешь, и это продолжается годами. Только в 35 году роман в письмах прекратился волевым усилием Ангелины - а к Эрдману вернулась жена, все это время бывшая где-то за сценой. Тем не менее, весь этот огромный ворох писем и открыток оба сохранили на всю жизнь.
Впечатляет биография Степановой: вскоре после расставания с Эрдманом она вышла замуж за Фадеева, родила ему детей, одного из которых пережила. Все эти годы играла, получила все возможные театральные награды. Дожила до 95 лет и умерла в 2000 году, когда вот то издание, что я читала, готовили в печать. Пережила всю советскую власть, короче, и еще в 93 года выходила на сцену. Не тихая и не простая жизнь, но впечатляющая.
Пьес у него, собственно, всего две - "Самоубийца" и "Мандат". Если можете себе представить, то это помесь Хармса и Зощенко, причем изумительно смешная. Зощенко, честно говоря, с его походом против мешанства и бытовой глупости кажется мне временами слишком скучным и очевидным, Хармс - слишком безумным, а Эрдман - золотая середина. В "Мандате" кое-как устроившиеся представители "буржуазии" (до революции у них был аж магазин) пытаются выдать замуж девицу под предлогом вхождения ее брата в партию и наличием родственников-пролетариев. И то, и другое - чистый блеф, причем неудачный, вокруг всего этого общества возникает целый хоровод таких же глупых впечатлительных и очень комических людей.
"Самоубийца" еще веселее: некий гражданин, повздорив с женой, запирается в сортире, а бестолковая его жена совместно с тещей решают, что он готовится совершить самоубийство, благо причин-то всегда достаточно, если покопать. Весть разносится по округе, и тут же набегают всякие знакомые и незнакомые, представители интеллигенции, торговли, роковые женщины, священник, и все пытаются убедить, чтобы самоубийство было совершено ради их дела, а не просто так - чего добру-то пропадать. Герой, который ничего такого не собирался, начинает поддаваться под их напором. Особенно смешны в этой тусовке роковые женщины числом две, соперничающие за внимание некоего, видимо, состоятельного господина, которого они уже утомили донельзя.
"Она хочет, чтобы он целовал ее тело, она хочет сама целовать его тело, только тело, тело и тело. Я, напротив, хочу обожать его душу, я хочу, чтобы он обожал мою душу, только душу, душу и душу. Заступитесь за душу, господин Подсекальников, застрелитесь из-за меня. Возродите любовь. Возродите романтику. И тогда... Сотни девушек соберутся у вашего гроба, мсье Подсекальников, сотни юношей понесут вас на нежных плечах, и прекрасные женщины..."
В общем, это ужасно смешно, верьте мне.
Интермедии Эрдмана примерно того же толка, но короткие и не столь занятные, на сцене это, впрочем, должно смотреться куда лучше, чем на бумаге.
Очень впечатляет переписка с актрисой Ангелиной Степановой - начавшаяся незадолго до ссылки Эрдмана и продолжавшаяся 7 лет, с 1928 по 35 годы. Степанова причем была его любовницей при живой жене. С художественной точки зрения, собственно, там нет ничего интересного - эти письма писались не для публикации, как многие, да и не письма больше, а короткие открытки. И пишут герои друг другу в основном то, что любят и скучают. Письма Ангелины интересны, пожалуй, историкам театра, т.к. она много рассказывает о своей работе и окружении. Значительная часть писем пропала. При этом Ангелина писала Эрдману каждый день (я серьезно, ну, почти каждый, писем чудовщиное количество) и он так же отвечал, а поскольку письма обоих авторов приведены в хронологическом порядке, видна работа нашей почты: на вопрос, заданный в письме месячной давности, ответ дается только сейчас.
Вообще, стоит подумать об этом, становится ужасно. Любимого человека отправляют в ссылку в тьмутаракань надолго, ты и поехать с ним не можешь (и он не позволит первым делом), и бросить его не можешь, и это продолжается годами. Только в 35 году роман в письмах прекратился волевым усилием Ангелины - а к Эрдману вернулась жена, все это время бывшая где-то за сценой. Тем не менее, весь этот огромный ворох писем и открыток оба сохранили на всю жизнь.
Впечатляет биография Степановой: вскоре после расставания с Эрдманом она вышла замуж за Фадеева, родила ему детей, одного из которых пережила. Все эти годы играла, получила все возможные театральные награды. Дожила до 95 лет и умерла в 2000 году, когда вот то издание, что я читала, готовили в печать. Пережила всю советскую власть, короче, и еще в 93 года выходила на сцену. Не тихая и не простая жизнь, но впечатляющая.
вторник, 13 декабря 2016
Шпенглер & Инститорис
Стихи Кузмина как-то прошли мимо меня, притом, что вообще я очень люблю поэтов Серебряного века и сам этот волшебный период. То есть о его существовании я, конечно, знала, но только в контексте общего фона и упоминаний в чужих воспоминаниях. В школе его, ясное дело, не проходили, не знаю, как сейчас. Зато у меня не было никакого предвзятого отношения, что очень удобно, и я сразу начала с самого полного сборника стихов Кузмина - издания "Новой библиотеки поэта".
Вначале мне как-то не пошло. Ранние стихи Кузмина очень гладкие: аккуратный размер, аккуратные рифмы, большая часть из них - совершенно необязательные, техического плана, только чтобы строфа сложилась. Легко читать и моментально забывается. Такие необязательные "альбомные" стишки. Но чем дальше, тем как-то лучше становилось. Притом, что значительная часть тома все равно эти гладкие стихи про несерьезную любовь, некоторые попадаются совершенно потрясающие. Не уча специально, я уже запомнила несколько наизусть. Еще пару опознала как знакомые с далекого детства, притом, что я все эти годы не имела ни малейшего представления об их авторе (про Гете - "... но все настоящее в немецкой жизни - лишь комментариум..." - почему-то я была уверена, что это принадлежит Айхенвальду, нет, оказалось, Кузмину).
Вот то, что мне больше всего понравилось:
"Александрийские" его стихи, от которых все прутся, как-то прошли совершенно мимо меня и ничем, ничем не запомнились. Правда, я вообще не любитель верлибров и никогда их толком не понимала, только кое-что у Одена мне нравится, но и то единицы. Но вот это стихотворение Кузмина, пожалуй, самое потрясающее вообще, и что забавно, я даже не могу объяснить, чем оно так хорошо и лучше остальных прочих.
Притом, что все остальные его верлибры, которых чем дальше, тем больше, оставили меня также совершенно почти равнодушной. Хотя нет, вот разве еще одно, маленькое, но очень торжественное. Мне кажется, Кузмину очень хорошо удалось передать это дивное ощущение всемогущества, которое охватывает, когда ты понимаешь, что ты, действительно, любим предметом своих чувств))
Достоинство (небольшое такое ) моего сборника - в него включен небольшой цикл эротических стихов, "Занавешенные картинки" причем прямо в репринтном виде, с ятями и оригинальными иллюстрациями, пошловатых и очень веселых.
) моего сборника - в него включен небольшой цикл эротических стихов, "Занавешенные картинки" причем прямо в репринтном виде, с ятями и оригинальными иллюстрациями, пошловатых и очень веселых.
У Кузмина бывают очень хорошие даже не целые стихи, а отдельные строфы. Собственно, это часто так бывает, особенно у много пищущих авторов.
Еще чудесные стихи про Италию. Многие поэты пишут про далекие страны так, что сразу становится понятно, что они в них никогда не были и ничего не поняли. Кузмин был в Италии и все понял, от его стихов остается то же самое впечатление.
Я почти полгода думала, что Равенна - это мое личное маленькое открытие, такой нетуристический город, в который никто не ездит, хотя он совсем рядом с классическим русским курортом Римини. Оказалось, общемировое, и "Меж сосен сонная Равенна" знают все приличные люди, кроме меня)
Интересный вопрос, сказывается ли как-то на любовной лирике Кузмина его гомосексуальность - я бы сказала, что делает лирику значительно менее "общим местом", чем она обычно бывает, менее скучной и шаблонной. Набивших оскомину идеальных романтических образов его нет, и значительное число стихов имеют вполне конкретных и отнюдь не идеальных адресатов, что делает их очень настоящими и человечными. Маленький стишок "Баржи затопили в Кронштадте..." - прекрасней всех блоковских прекрасных дам.
В общем, удивительное открытие прекрасного и умного автора. Пойду теперь читать его прозу.
Вначале мне как-то не пошло. Ранние стихи Кузмина очень гладкие: аккуратный размер, аккуратные рифмы, большая часть из них - совершенно необязательные, техического плана, только чтобы строфа сложилась. Легко читать и моментально забывается. Такие необязательные "альбомные" стишки. Но чем дальше, тем как-то лучше становилось. Притом, что значительная часть тома все равно эти гладкие стихи про несерьезную любовь, некоторые попадаются совершенно потрясающие. Не уча специально, я уже запомнила несколько наизусть. Еще пару опознала как знакомые с далекого детства, притом, что я все эти годы не имела ни малейшего представления об их авторе (про Гете - "... но все настоящее в немецкой жизни - лишь комментариум..." - почему-то я была уверена, что это принадлежит Айхенвальду, нет, оказалось, Кузмину).
Вот то, что мне больше всего понравилось:
"Проходит все, и чувствам нет возврата",
Мы согласились мирно и спокойно, -
С таким суждением все выходит стройно
И не страшна любовная утрата.
Зачем же я, когда Вас вижу снова,
Бледнею, холодею, заикаюсь,
Былым (иль не былым?) огнем терзаюсь
И нежные благодарю оковы?
Амур-охотник все стоит на страже,
Возвратный тиф - опаснее и злее.
Проходит все, моя любовь - не та же,
Моя любовь теперь еще сильнее".
***
"Я тихо от тебя иду,
А ты остался на балконе.
"Коль славен наш Господь в Сионе"
Трубят в Таврическом саду.
Я вижу бледную звезжу
На теплом, светлом небосклоне,
И лучших слов я не найду,
Когда я от тебя иду,
Как "славен наш Господь в Сионе".
Мы согласились мирно и спокойно, -
С таким суждением все выходит стройно
И не страшна любовная утрата.
Зачем же я, когда Вас вижу снова,
Бледнею, холодею, заикаюсь,
Былым (иль не былым?) огнем терзаюсь
И нежные благодарю оковы?
Амур-охотник все стоит на страже,
Возвратный тиф - опаснее и злее.
Проходит все, моя любовь - не та же,
Моя любовь теперь еще сильнее".
***
"Я тихо от тебя иду,
А ты остался на балконе.
"Коль славен наш Господь в Сионе"
Трубят в Таврическом саду.
Я вижу бледную звезжу
На теплом, светлом небосклоне,
И лучших слов я не найду,
Когда я от тебя иду,
Как "славен наш Господь в Сионе".
"Александрийские" его стихи, от которых все прутся, как-то прошли совершенно мимо меня и ничем, ничем не запомнились. Правда, я вообще не любитель верлибров и никогда их толком не понимала, только кое-что у Одена мне нравится, но и то единицы. Но вот это стихотворение Кузмина, пожалуй, самое потрясающее вообще, и что забавно, я даже не могу объяснить, чем оно так хорошо и лучше остальных прочих.
Римский отрывок
Осторожный по болоту дозор...
на мху черные копыт следы...
за далекой плотиной
конь ржет тонко и ретиво..
сладкой волной с противо-
положных гор
мешается с тиной
дух резеды.
Запах конской мочи...
(недавняя стоянка врагов).
Разлапая медведицы семерка
тускло мерцает долу.
Сонное копошенье полу-
голодных солдат. Мечи
блещут странно и зорко
у торфяных костров.
Завтра, наверно, бой...
Смутно ползет во сне:
стрелы отточены остро,
остра у конников пика.
Увижу ли, Ника-
мидия, тебя, город родной?
Выйдут ли мать и сестры
Навстречу ко мне
В дрему валюсь, словно песком засыпан в пустыне.
Небо не так синё, как глаза твои, Окставия, сини!
Осторожный по болоту дозор...
на мху черные копыт следы...
за далекой плотиной
конь ржет тонко и ретиво..
сладкой волной с противо-
положных гор
мешается с тиной
дух резеды.
Запах конской мочи...
(недавняя стоянка врагов).
Разлапая медведицы семерка
тускло мерцает долу.
Сонное копошенье полу-
голодных солдат. Мечи
блещут странно и зорко
у торфяных костров.
Завтра, наверно, бой...
Смутно ползет во сне:
стрелы отточены остро,
остра у конников пика.
Увижу ли, Ника-
мидия, тебя, город родной?
Выйдут ли мать и сестры
Навстречу ко мне
В дрему валюсь, словно песком засыпан в пустыне.
Небо не так синё, как глаза твои, Окставия, сини!
Притом, что все остальные его верлибры, которых чем дальше, тем больше, оставили меня также совершенно почти равнодушной. Хотя нет, вот разве еще одно, маленькое, но очень торжественное. Мне кажется, Кузмину очень хорошо удалось передать это дивное ощущение всемогущества, которое охватывает, когда ты понимаешь, что ты, действительно, любим предметом своих чувств))
"Довольно. Я любим. Стоит в зените
Юпитер неподвижный. В кабинет
Ко мне вошел советник тайный Гете,
Пожал мне руку и сказал: "Вас ждет
Эрцгерцог на бостон. Кольцо и якорь".
Закрыв окно, я потушил свечу".
Юпитер неподвижный. В кабинет
Ко мне вошел советник тайный Гете,
Пожал мне руку и сказал: "Вас ждет
Эрцгерцог на бостон. Кольцо и якорь".
Закрыв окно, я потушил свечу".
Достоинство (небольшое такое
 ) моего сборника - в него включен небольшой цикл эротических стихов, "Занавешенные картинки" причем прямо в репринтном виде, с ятями и оригинальными иллюстрациями, пошловатых и очень веселых.
) моего сборника - в него включен небольшой цикл эротических стихов, "Занавешенные картинки" причем прямо в репринтном виде, с ятями и оригинальными иллюстрациями, пошловатых и очень веселых. У Кузмина бывают очень хорошие даже не целые стихи, а отдельные строфы. Собственно, это часто так бывает, особенно у много пищущих авторов.
"Воскресший дух неумертвим,
Соблаз напрасен.
Мой вождь прекрасен, как серафим,
И путь мой - ясен".
Соблаз напрасен.
Мой вождь прекрасен, как серафим,
И путь мой - ясен".
Еще чудесные стихи про Италию. Многие поэты пишут про далекие страны так, что сразу становится понятно, что они в них никогда не были и ничего не поняли. Кузмин был в Италии и все понял, от его стихов остается то же самое впечатление.
"Умбрия, матерь задумчивых далей,
Ангелы лучшей страны не видали".
Ангелы лучшей страны не видали".
Я почти полгода думала, что Равенна - это мое личное маленькое открытие, такой нетуристический город, в который никто не ездит, хотя он совсем рядом с классическим русским курортом Римини. Оказалось, общемировое, и "Меж сосен сонная Равенна" знают все приличные люди, кроме меня)
Интересный вопрос, сказывается ли как-то на любовной лирике Кузмина его гомосексуальность - я бы сказала, что делает лирику значительно менее "общим местом", чем она обычно бывает, менее скучной и шаблонной. Набивших оскомину идеальных романтических образов его нет, и значительное число стихов имеют вполне конкретных и отнюдь не идеальных адресатов, что делает их очень настоящими и человечными. Маленький стишок "Баржи затопили в Кронштадте..." - прекрасней всех блоковских прекрасных дам.
В общем, удивительное открытие прекрасного и умного автора. Пойду теперь читать его прозу.


