 Еще чуть-чуть - и меня упороло бы основательно. Во всяком случае, ничего из *новых книг* (в смысле, не бессмертной классики) со времен Сюзанны Кларк не вызывало у меня такого интереса, слегка фанатского. Притом, что судя только по обложке - я бы ни в жизнь такое не купила))
Еще чуть-чуть - и меня упороло бы основательно. Во всяком случае, ничего из *новых книг* (в смысле, не бессмертной классики) со времен Сюзанны Кларк не вызывало у меня такого интереса, слегка фанатского. Притом, что судя только по обложке - я бы ни в жизнь такое не купила)) У Медведевич оказался удивительно хорошо прописанный и необычный мир - а в фэнтези это, наверное, большая часть успеха. Псевдо-европейским средневековьем разной степени безграмотности у нас никого не удивишь, в последнее время и псевдо-древнерусскими мирами (от которых хочется закрыться двойным фейспалмом прям сразу - тоже. У Медведевич он псевдо-арабский, также околосредневековый. Такой мир уже сам по себе - непростая задача, и автор просто блестяще с ней справилась. В бэкграунде чувствуется очень большая работа научного плана, которая вылилась в огромное количество мелких, но создающих очень определенный колорит деталей, терминов, названий, имен, несущественных сюжетных моментов. Я, конечно, ни разу не специалист, но даже если 80% из всего этого придумано, а не взято откуда-то из реальной истории того периода и региона - придумано невероятно удачно. Мир халифата, все города, опасные кочевые племена, таинственные "сумеречные народы" на дальней границе - встают как живые. В той части, в которой я могу худо-бедно оценть адекватности воссоздания именно антуража, а именно в части кочевых племен, которые очевидным образом олицетворяют в этом мире татаро-монгол - сделано на высшем уровне. Да и в целом нигде не остается ощущение фальши и высосанности из пальца - скорее наоборот, временами возникает чувство, что подобного материала у автора еще много, едва ли не больше, чем сюжета.
Для меня хороший фантастический мир - это главная приманка в подобной литературе. "Ястреб халифа" - лучший из многих как по оригинальности мира, так и по его проработке. Чувствуется, что автор предпринял усилия, сопоставимые с усилиями профессора, и они не пропали даром) За весь текст мне резануло глаз только трижды: гейс, имя тебе легион и опасное лето (привет муми-троллям), но для такого большого объема такие маленькие неуместности - простительны, думаю, и хороший редактор легко бы их вычистил. Зато все остальные очень обильные детали, цитаты и термины - очень хороши, но при этом совсем не кажутся избыточными. Текст с ними легко читать, и чтобы следить за сюжетом, совершенно не нужно разбираться во всех именах, названиях, званиях и терминах - Медведевич в этом плане *профессиональный* автор, а не "старательный", то есть разумно ограничивает поток своей эрудиции так, чтобы он не повредил сюжету.
Сам сюжет - это отдельная история, shameful pleasure. Я понимаю, почему "Ястреб халифа" называют фанфиком - не по очень далекой относимости к миру Сильмариллиона (очень-очень далекой: говорят, что главный герой - нолдо, каким-то чудом забредший на восток), а по самой сути. Восточный шейх, повинуясь некоему указанию астрологов и советчиков, за большие деньги покупает пленного представителя магического народа и ставит его своим полководцем, чтобы сопротивляться набегам кочевников. Пленник связан хитроумным магическим контрактом и вынужден служить "короне", пусть периодически и показывая свой норов. Разумеется, он оказывается гениальным полководцем, помимо этого периодически колдует, при этом обладает эльфийскими статями, а также страдает от своего проклятия и общей нецивилизованности окружающих (вполне обоснованно). Забавно, кстати, что первоначально все его достижения в качестве "магического полководца" сводятся к тому, что и так советовал бы здравый смысл: наладить дисциплину в армии, наказывать провинившихся, запрещать армии грабить и насиловать мирных жителей и т.д.
В грубом и сокращенном описании все это звучит, конечно, ужасно, но дело не в том, что, а в том, как. Нерегиль Тарег у Меведевич - персонаж очень интересный и при этом не вызывающий особой симпатии. И интерес он представляет прежде всего тем волшебным (по меркам халифата) миром, из которого происходит, особенностями и своего народа, и своей культуры, которая, видимо, изрядно отличается от культуры описанного мира. Нам видно только краешек этого мира, но хочется узнать больше. Собственно, "эльфичность" героя автор очень мало эксплуатирует - и все упоминания про "тонкие запястья", это идолище женских романов, тоже стоило бы вычисчить хорошему редактору)) Большей частью сюжет состоит из войн, которые постоянно ведут войска халифа под командованием нерегиля, и описания этих войн и осад весьма детальные и кровавые, но без мартиновского смакования. Скорее, кровавость тут - необходимый признак эпохи, и в этом есть определенный мрачный эстетизм и привлекательность, как он есть для европейца в фигуре Саладина, например.
Забавно, кстати, что наиболее симпатичным, разумным и адекватным персонажем оказывается юный халиф, который держит нерегиля на магическом поводке. Притом, что его pov дан достаточно детально, приходится признать, что в плане человеческих качеств именно халиф даст форы всем остальным героям. Зато фигура его жены, Айши, которая появляется как Мэри Сью (умная-образованная и думает не только о драгоценностях и мужчинах) и начинает вызывать оправданное раздражение, под коней оказывается какой-то размазанной, скорее картонкой, чем характером - или слухи о стоящем характере были сильно преувеличены.
Отношения персонажей находятся на периферии сюжета (что к лучшему), а в центре все-таки - войны, мятежи и прочие околовоенные мероприятия, а также немного магии. Медведевич удалось сделать изрядное количество кампаний разными и захватывающими, так, что они не надоедают, по крайней мере, мне. Мне вообще очень импонирует концепция защиты государства, и именно к государству, а не к личности халифа привязан магический контракт нерегиля. Для фэнтези это очень взрослая идея, что ли.
Наверное, из длиннющего отзыва не очень понятно, чем же я так впечатлилась - но лучше я не объясню. Тут же побежала и купила остальные книги на бумаге, что я вообще с литературой на русском очень редко делаю)) Считайте за рекомендацию.



 Я устала от интеллектуального чтения и этих бесконечных имен, названий и комментариев в сагах, и мне захотелось хрени. Вот, собственно, она. К чести автора, написано именно технически очень неплохо, некоторые уважаемые товарищи современные фантасты пишут куда хуже. Читается на одном дыхании. Маленький, совершенно необременительный романчик о приключениях трех друзей-русских, которые поехали в Нормандию по местам высадки союзников, случайно наткнулись на некое таинственное описание пути к сокровищами и дальше затеяли автоквест по их следам. Что мило, автор нигде не перегнул, не размазал соплей, нет ничего неестественного или раздражающего.
Я устала от интеллектуального чтения и этих бесконечных имен, названий и комментариев в сагах, и мне захотелось хрени. Вот, собственно, она. К чести автора, написано именно технически очень неплохо, некоторые уважаемые товарищи современные фантасты пишут куда хуже. Читается на одном дыхании. Маленький, совершенно необременительный романчик о приключениях трех друзей-русских, которые поехали в Нормандию по местам высадки союзников, случайно наткнулись на некое таинственное описание пути к сокровищами и дальше затеяли автоквест по их следам. Что мило, автор нигде не перегнул, не размазал соплей, нет ничего неестественного или раздражающего. 
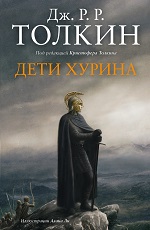 От активности Кристофера Толкина все-таки есть толк: пусть "Дети Хурина" и не закончены самим Толкином, это история уже высокого уровня готовности, и прочитать ее отдельно во внятном последовательном изложении очень интересно. Тем более, что из всего легендариума Сильмариллиона это одна из самых важных, наряду с историей о Берене и Лютиэнь. Но если история про Берена - прежде всего о любви, то история о Турине Турамбаре - прежде всего, о роке. Мелькор проклял Хурина и его потомков, и проклятие оказалось страшной действенной силы, "что б они ни делали - не идут дела".
От активности Кристофера Толкина все-таки есть толк: пусть "Дети Хурина" и не закончены самим Толкином, это история уже высокого уровня готовности, и прочитать ее отдельно во внятном последовательном изложении очень интересно. Тем более, что из всего легендариума Сильмариллиона это одна из самых важных, наряду с историей о Берене и Лютиэнь. Но если история про Берена - прежде всего о любви, то история о Турине Турамбаре - прежде всего, о роке. Мелькор проклял Хурина и его потомков, и проклятие оказалось страшной действенной силы, "что б они ни делали - не идут дела".  Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.
Стандартный маленький серийный путеводитель. Про достопримечательности там ничего нет, зато кое-что интересное про жизнь современных португальцев: как устроены семьи, какое отношение у португальцев к работе, какой режим дня, как отмечают праздники. Галопом по европам, конечно, но почитать можно, хотя большинство "особенностей" таковыми на самом деле не являются. Ничего шокирующего и неожиданного не узнаешь, но некоторые сведения о работе аптек и банков, а также традиционных блюдах и винах, почерпнуть можно. Я бы для себя покупать такой не стала, часть сведений пригодится разве что эмигранту, а не туристу. Но в принципе большинство гидов редко выдают больше информации о том, как живут именно люди в стране, а ведь это тоже интересно.

 Давно собиралась почитать этого автора, но как-то руки не доходили. Французский "сказочник", писатель "для детей", с совершенно сказочной фабулой, но не сказочным ужасом, который вызывают самые простые моменты, несказочной бытовой жестокостью и недетской реалистичностью.
Давно собиралась почитать этого автора, но как-то руки не доходили. Французский "сказочник", писатель "для детей", с совершенно сказочной фабулой, но не сказочным ужасом, который вызывают самые простые моменты, несказочной бытовой жестокостью и недетской реалистичностью.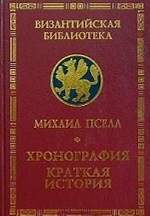 О Пселле я впервые узнала из книжки Иванова про византийский Стамбул - и, надо отдать Иванову должное, для своего путеводителя он выбрал из Пселла все самое лучшее. Ну как лучшее - самый треш, угар и содомию. На самом деле Пселл не настолько концентрирован, хотя треша, конечно, ему не занимать. Особая прелесть этой звезды византийской историографии 11 века в том, что он описывает не просто современные ему события, а в большинстве случаев еще и те, непосредственным участником которых он был. Пселл значительную часть своей жизни провел при византийском императорском дворце, с достойной удивления стабильностью оставаясь на плаву на самом верху, притом, что сами императоры сменялись c завидной регулярностью, и минимальный срок царствования из описанных Пселлом составлял, кажется, несколько месяцев.
О Пселле я впервые узнала из книжки Иванова про византийский Стамбул - и, надо отдать Иванову должное, для своего путеводителя он выбрал из Пселла все самое лучшее. Ну как лучшее - самый треш, угар и содомию. На самом деле Пселл не настолько концентрирован, хотя треша, конечно, ему не занимать. Особая прелесть этой звезды византийской историографии 11 века в том, что он описывает не просто современные ему события, а в большинстве случаев еще и те, непосредственным участником которых он был. Пселл значительную часть своей жизни провел при византийском императорском дворце, с достойной удивления стабильностью оставаясь на плаву на самом верху, притом, что сами императоры сменялись c завидной регулярностью, и минимальный срок царствования из описанных Пселлом составлял, кажется, несколько месяцев.

 Исключительно чтобы зафиксировать, что я это читала. Хороший путеводитель именно на почитать, кстати: много исторических сведений, легенд, мини-статеек на специфические темы типа виноделия и народных промыслов. Ходить с ним не будешь: нет карт, нет адресов и много текста. А изучить до поездки полезно, я именно по нему план на ближайшую составила.
Исключительно чтобы зафиксировать, что я это читала. Хороший путеводитель именно на почитать, кстати: много исторических сведений, легенд, мини-статеек на специфические темы типа виноделия и народных промыслов. Ходить с ним не будешь: нет карт, нет адресов и много текста. А изучить до поездки полезно, я именно по нему план на ближайшую составила.