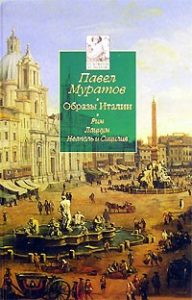Но в общем нет, "Патерик" - и не сложная вещь, и не напряжная ни эмоционально, ни интеллектуально, и никакого не то что особого, а вообще отношения к религии не требует. Вкратце - это сборник околоцерковных анекдотов. На тему жизни иноков, батюшек и отдельных прихожан, отличающихся религиозным рвением или вообще нет. Некоторые анекдоты как будто бородатые, но не узнаваемые, некоторые, может быть, и настоящие истории. И все это очень мило и с хорошим чувством юмора. То есть не пропаганда религии совсем, а скорее, знаете, такой экскурс в кружок для своих - не прогонят, но и силой не тащат.
Я получила удовольствие. Читается на одном дыхании, и вообще приятное разнообразие по сравнению с тем, что я читала в последнее время. Скрасит перелет Питер-Москва как воцерковленным, так и совершенно далеким людям.
Вот пример совсем короткой истории, чтобы вы поняли, чего следует ждать:
"Брат пришел к авве Аверкию и сказал ему:
– Я такой ленивый, что тяжело мне даже подняться, чтобы идти на послушание. Каждый день для меня каторга, и чувствую, что скоро я совсем надорвусь от труда и самопринуждения.
– Если так тяжело ходить тебе на работу, – отвечал авва, – не ходи. Оставайся в келье и горько оплакивай свою леность. Да рыдай погромче! Увидев, как горько ты плачешь, никто не тронет тебя."






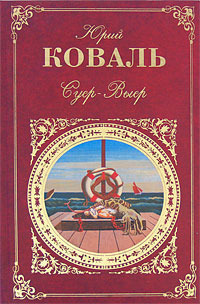
 Открою страшную тайну: на фейсбуке я постоянно читаю только двух авторов - своего мужа и паблик
Открою страшную тайну: на фейсбуке я постоянно читаю только двух авторов - своего мужа и паблик