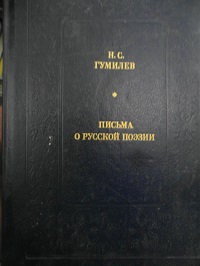Очень интересный, хоть и непростой для восприятия научпоп по "общей теории всего". Хокинг в действительности описывает самые базовые вещи, но зато - от мала до велика. То есть начиная с того, как "устроены" и "работают" элементарные частицы - и заканчивая тем, как устроена и работает вся Вселенная. Про вселенную, конечно, больше, и это очень интересно, хоть и мне как гуманитарию понятно далеко не все. Вроде бы Хокинг пишет очень доступным языком и в книге действительно нет ни одной формулы, не считая E=mc2, но за некоторыми построениями я уследить не смогла - хотя думаю, люди с техническим складом ума смогут. Хокинг подробно описывает теории про зарождение и будущую гибель Вселенной, при этом не только описывая современное состояние проблемы, но и давая весьма приличные экскурсы в историю ее изучения. Очень интересно в нескольких местах проследить, как постепенно, за счет разных частично ошибочных, а частично правильных теорий, которые где-то дополняют друг друга, а где-то друг другу противоречат, рождается современное понимание - и тут очень четко понимаешь, что и современная точка зрения совсем необязательно правильная, а скорее - только ступенька на общем пути.
Очень интересный, хоть и непростой для восприятия научпоп по "общей теории всего". Хокинг в действительности описывает самые базовые вещи, но зато - от мала до велика. То есть начиная с того, как "устроены" и "работают" элементарные частицы - и заканчивая тем, как устроена и работает вся Вселенная. Про вселенную, конечно, больше, и это очень интересно, хоть и мне как гуманитарию понятно далеко не все. Вроде бы Хокинг пишет очень доступным языком и в книге действительно нет ни одной формулы, не считая E=mc2, но за некоторыми построениями я уследить не смогла - хотя думаю, люди с техническим складом ума смогут. Хокинг подробно описывает теории про зарождение и будущую гибель Вселенной, при этом не только описывая современное состояние проблемы, но и давая весьма приличные экскурсы в историю ее изучения. Очень интересно в нескольких местах проследить, как постепенно, за счет разных частично ошибочных, а частично правильных теорий, которые где-то дополняют друг друга, а где-то друг другу противоречат, рождается современное понимание - и тут очень четко понимаешь, что и современная точка зрения совсем необязательно правильная, а скорее - только ступенька на общем пути.Для меня самые интересные главы были про устройство черных дыр - может, потому, что в них я как-то больше поняла, тем более что это тема, более других освоенная научной и антинаучной фантастикой. Действительно очень интересно, и можно на основе прочитанного уже составить некое мнение относительно той ерунды, что показывают в фантастических фильмах про космос)) Хокинг тоже проходится по фантастам, но слегка и в любовью.
В целом - не самое легкое, но приятное и познавательное чтение.



 Новый роман Сеттерфилд - в большой степени в духе предыдущего, "Тринадцатой сказки", а также - в духе всей предшестующей английской литературной традиции, ближайшим аналогом и вдохновителем и этого жанра, и этого слога я бы назвала Уилки Коллинза. Тут вам и тихая английская деревня, практически пастораль, но без вольтеровских пастушек и флейтистов, а с довольно суровым, пусть и привычным сельским бытом и простыми нравами. Тут и мистика, во всяком случае, обстоятельства, которые скорее удобнее объяснять некими таинственными мистическими причинами, чем искать им объяснение в рамках нашей скучной реальности. И семеные драмы, и даже немного детектив. Все это подано очень живо и с точки зрения разных персонажей, каждый из которых играет свою роль и смотрит под своим углом зрения (хозяйка сельской гостиницы, богатый помещик, сельская медсестра, бродяга, странствующий фотограф, молодой плут и прощелыга). Цельная картнина складывается далеко не сразу, но в этом и суть - читатель как бы собирает паззл из разных обстоятельств и разных точек зрения на эти обстоятельства, и только все вместе они образуют единую складную картину, в которой все мистические события находят свое рациональное объяснение.
Новый роман Сеттерфилд - в большой степени в духе предыдущего, "Тринадцатой сказки", а также - в духе всей предшестующей английской литературной традиции, ближайшим аналогом и вдохновителем и этого жанра, и этого слога я бы назвала Уилки Коллинза. Тут вам и тихая английская деревня, практически пастораль, но без вольтеровских пастушек и флейтистов, а с довольно суровым, пусть и привычным сельским бытом и простыми нравами. Тут и мистика, во всяком случае, обстоятельства, которые скорее удобнее объяснять некими таинственными мистическими причинами, чем искать им объяснение в рамках нашей скучной реальности. И семеные драмы, и даже немного детектив. Все это подано очень живо и с точки зрения разных персонажей, каждый из которых играет свою роль и смотрит под своим углом зрения (хозяйка сельской гостиницы, богатый помещик, сельская медсестра, бродяга, странствующий фотограф, молодой плут и прощелыга). Цельная картнина складывается далеко не сразу, но в этом и суть - читатель как бы собирает паззл из разных обстоятельств и разных точек зрения на эти обстоятельства, и только все вместе они образуют единую складную картину, в которой все мистические события находят свое рациональное объяснение. Все-таки Булгаков чертовски хорошо пишет! Мне кажется, он и расписание поездов мог бы написать так, чтобы каждая фраза была шедервом, а все вместе - смешно и захватывающе. С историей Мольера получилось так же. По сути это биография, уж не знаю, насколько подробная и достоверная, но Булгаков ссылается на достаточно большой объем проверяемой информации - думаю, он честно отработал с доступными источниками (вряд ли уж он сам придумывал суммы, которые собирали те или иные спектакли, даром что художественной пользы от этого чуть). Булгаков прослеживает жизнь Мольера от рождения до смерти, заодно немного захватывая и историю Франции - а там есть, что захватить, учитывая, что под конец своих дней Мольер руководил придорным театром Короля-Солнце, и сам Людовик периодически появляется на сцене как у Булгакова, так и у Мольера. Изображенный Булгаковом Людовик, кстати, и правда очень умный человек - не говоря уж о том, что его покровительству не в последнюю очередь Мольер обязан своей славе и местом в числе бессмертных.
Все-таки Булгаков чертовски хорошо пишет! Мне кажется, он и расписание поездов мог бы написать так, чтобы каждая фраза была шедервом, а все вместе - смешно и захватывающе. С историей Мольера получилось так же. По сути это биография, уж не знаю, насколько подробная и достоверная, но Булгаков ссылается на достаточно большой объем проверяемой информации - думаю, он честно отработал с доступными источниками (вряд ли уж он сам придумывал суммы, которые собирали те или иные спектакли, даром что художественной пользы от этого чуть). Булгаков прослеживает жизнь Мольера от рождения до смерти, заодно немного захватывая и историю Франции - а там есть, что захватить, учитывая, что под конец своих дней Мольер руководил придорным театром Короля-Солнце, и сам Людовик периодически появляется на сцене как у Булгакова, так и у Мольера. Изображенный Булгаковом Людовик, кстати, и правда очень умный человек - не говоря уж о том, что его покровительству не в последнюю очередь Мольер обязан своей славе и местом в числе бессмертных. Сборник рассказов-сайдстори к миру The Circle of the World ("Третий закон" и все остальное). Честно скажу - купила ради рассказа про молодого Глокту ("A Beautiful Bastard") - небольшого эпизода из войны, как раз предшествовавшего его пленению гурками. Но это оказался не лучший и не самый интересный рассказ из сборника.
Сборник рассказов-сайдстори к миру The Circle of the World ("Третий закон" и все остальное). Честно скажу - купила ради рассказа про молодого Глокту ("A Beautiful Bastard") - небольшого эпизода из войны, как раз предшествовавшего его пленению гурками. Но это оказался не лучший и не самый интересный рассказ из сборника. Главной задачей при чтении этой книги было выяснить, что же такое Трапезунд. Итак, Трапезунд - это такой осколок Византийской империи, тоже в современной Турции на побережье Черного моря, но ближе к Грузии, современное название этого места, если не вру - Трабзон. Конечно, к Турции Трапезундская империя не имеет никакого отношения - она существовала в то же время, что и Византийская, примерно с конца 11 века до середины 15, и пережила падение Константинополя всего на 8 лет, и то только по тому, что за незначительностью Мехмет Завоеватель поначалу не обратил на нее никакого особого внимания. Управлялся Трапезунд младшими родственниками византийских Палеологов - линией Комнинов. Ну а дальше - все, как при византийском дворе, только труба пониже: вероломство, интриги, убийства, постоянные распри и правители, которых заботит что угодно, только не процветание страны.
Главной задачей при чтении этой книги было выяснить, что же такое Трапезунд. Итак, Трапезунд - это такой осколок Византийской империи, тоже в современной Турции на побережье Черного моря, но ближе к Грузии, современное название этого места, если не вру - Трабзон. Конечно, к Турции Трапезундская империя не имеет никакого отношения - она существовала в то же время, что и Византийская, примерно с конца 11 века до середины 15, и пережила падение Константинополя всего на 8 лет, и то только по тому, что за незначительностью Мехмет Завоеватель поначалу не обратил на нее никакого особого внимания. Управлялся Трапезунд младшими родственниками византийских Палеологов - линией Комнинов. Ну а дальше - все, как при византийском дворе, только труба пониже: вероломство, интриги, убийства, постоянные распри и правители, которых заботит что угодно, только не процветание страны. 
 Читал одну книгу Пастуро про цвета - считай, читал все. Не в смысле, что они одинаковы по содержанию - они одинаковы по схеме, объему анализируемых материалов и подходах. В "Зеленом", точно так же, как в "Синем" и "Красном", Пастуро анализирует восприятие цвета европейцами начиная с Древней Греции и Рима и до наших дней. Он затрагивает историю красильного дела, гербы, одежду, символику цвета, в т.ч. религиозную и мистическую, говорит о некоторых знаменитых людях, которые этот цвет любили или ненавидели. Все в целом дает довольно внятную и складную картину того, как менялось воспринятие конкретного цвета с течением времени - и почему.
Читал одну книгу Пастуро про цвета - считай, читал все. Не в смысле, что они одинаковы по содержанию - они одинаковы по схеме, объему анализируемых материалов и подходах. В "Зеленом", точно так же, как в "Синем" и "Красном", Пастуро анализирует восприятие цвета европейцами начиная с Древней Греции и Рима и до наших дней. Он затрагивает историю красильного дела, гербы, одежду, символику цвета, в т.ч. религиозную и мистическую, говорит о некоторых знаменитых людях, которые этот цвет любили или ненавидели. Все в целом дает довольно внятную и складную картину того, как менялось воспринятие конкретного цвета с течением времени - и почему.