 У меня очень неоднозначное впечатление; в целом я люблю трагедии Шекспира за то, что они при своей своей растиражированности и "попсовости" действительно задевают за живое - но вот в "Лире" на меня произвело эмоциональное впечатление только несчастье Глостеров, а отнюдь не самого Лира. В целом понятно, за что так пострадал Глостер-отец - ведь он сначала предал собственного сына, поверив наветам его сводного брата и не дав тому шанса оправдаться. Глостер-сын пострадал за собственную наивность и глупость, известно, в большой семье клювом не щелкай. Зато из него вышел отличный бродяга, который своими речами, на мой взгляд, украсил пьесу даже больше, чем шут Лира.
У меня очень неоднозначное впечатление; в целом я люблю трагедии Шекспира за то, что они при своей своей растиражированности и "попсовости" действительно задевают за живое - но вот в "Лире" на меня произвело эмоциональное впечатление только несчастье Глостеров, а отнюдь не самого Лира. В целом понятно, за что так пострадал Глостер-отец - ведь он сначала предал собственного сына, поверив наветам его сводного брата и не дав тому шанса оправдаться. Глостер-сын пострадал за собственную наивность и глупость, известно, в большой семье клювом не щелкай. Зато из него вышел отличный бродяга, который своими речами, на мой взгляд, украсил пьесу даже больше, чем шут Лира. А вот сам Лир - взбалмошный и неприятный старик; если ты считаешь, что можешь так распоряжаться судьбами других людей, ломая им жизни из-за нескольких невинных слов (я имею в виду начальный эпизод с изгнанием Корделии) - то почему же так удивляешься, когда другие люди начинают платить тебе тем же? Неудивительно, что две старших дочери, которые, очевидно, были не то чтобы поумнее, а более опытными в жизни, и не верили ни капли в любовь и добрые намерения Лира, а просто сыграли с ним в эту игру, формально выполнив свои роли. Вопрос, было ли это предательством или расчетом? Сдается мне, первое предательство в этой пьесе совершил сам Лир, ну а дальше, как водится, расплачивался за него; и первый поступок по расчету - тоже, думаю, его. Зачем разделять королевство между наследницами и передавать им всю власть, да еще и специально оговаривая совершенно конкретные условия своего содержания? В нашей правовой системе это называется пожизненной рентой, и такие договоры обычно заключают с государством: ты им - квартиру, оно тебе - содержание до конца жизни. Он пытался заключить со своими дочерьми такую же сделку, и с его стороны в этом была не любовь, а расчет - малоудивительно, что они показали буквально то же самое. На мой взгля, Лир вполне стоит своих старших дочерей, и если он всегда был таким и всегда их так воспитывал, то чего он ждал? Преданность младшей дочери, как и преданность Глостера, тем похвальнее, чем меньше причин имеет под собой.
Вереница трупов в конце слегка удивила даже меня; понятно, что это Шекспир, но некоторых он положил как-то совсем уж походя и не особо утруждаясь обоснованием - тех же старших дочерей, например.
Читать в оригинале, как выяснилось, вполне можно, хотя, конечно, очень помогали английские комментарии - без них было бы в некоторых местах совсем ничего не понятно даже со словарем. С другой стороны, довольно много мест, где комментарий сообщает, что исследователь А читает это так-то, а исследователь Б так-то, а что там на самом деле имел в виду Шекспир - бог весть. Я не пользовалась словарем не из самоуверенности, а потому, что читаю в основном в метро в час пик, и это просто физически невозможно, хотя он бы не помешал. По части стихов и самыми интересными, и самыми темными были речи шута и Эдгара в образе бродяги.



 Почему-то именно про Плутарха сложно сказать что-то особенное, как, например, про Геродота, Светония или Саллюстия. И дело не в том, что он плох - наоборот, он очень ровно хорош. По-моему, Плутарх пишет именно так, как вообще идеально писать на эту тему, местами подсвечивая характеры своих героев, местами - рассказывая о их семье и происхождении, временами делая лирические отступления, но ровно в меру. В нем как-то действительно всего очень в меру, и текст нельзя в целом назвать ни трагическим, ни комическим, ни строго биографическим - потому что, конечно, Плутарх рассматривает в целом эпоху и достаточно детально изучает всю совокупность происходящих вокруг событий, чтобы можно было составить впечатление о том, какое влияние оказал конкретный деятель на то, что происходило вообще в его стране и вокруг, кто влиял на его решения и почему обстоятельства были именно таковы. Это удивительное свойство, в общем, при таком широком размахе и таком разнообразии описываемых известных личностей из разных стран и эпох во всех случаях суметь создать у читателя не просто полное понимание характера и причин поступков героя, но и ситуации, в которой он действовал, в целом, да еще и на протяжении всей жизни.
Почему-то именно про Плутарха сложно сказать что-то особенное, как, например, про Геродота, Светония или Саллюстия. И дело не в том, что он плох - наоборот, он очень ровно хорош. По-моему, Плутарх пишет именно так, как вообще идеально писать на эту тему, местами подсвечивая характеры своих героев, местами - рассказывая о их семье и происхождении, временами делая лирические отступления, но ровно в меру. В нем как-то действительно всего очень в меру, и текст нельзя в целом назвать ни трагическим, ни комическим, ни строго биографическим - потому что, конечно, Плутарх рассматривает в целом эпоху и достаточно детально изучает всю совокупность происходящих вокруг событий, чтобы можно было составить впечатление о том, какое влияние оказал конкретный деятель на то, что происходило вообще в его стране и вокруг, кто влиял на его решения и почему обстоятельства были именно таковы. Это удивительное свойство, в общем, при таком широком размахе и таком разнообразии описываемых известных личностей из разных стран и эпох во всех случаях суметь создать у читателя не просто полное понимание характера и причин поступков героя, но и ситуации, в которой он действовал, в целом, да еще и на протяжении всей жизни. Если бы все хроники XII-XIII века были такими, я бы только их и читала, потому что ничего более комического и при этом одновременно познавательного и вообразить нельзя.
Если бы все хроники XII-XIII века были такими, я бы только их и читала, потому что ничего более комического и при этом одновременно познавательного и вообразить нельзя.





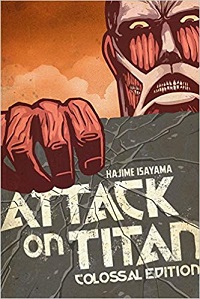
 Комическим образом я начала читать это учебник весной прошлого года, когда в силу разных рабочих орг. причин знания в этой области стали для меня актуальными, и добила только сейчас, когда они уже, слава богу, не актуальны. А то я из вуза не помню в этой области примерно ничего; с одной стороны, ни в какой другой отрасли права, с какими я сталкивалась, так мало ни значило бы простое знание теории и так много - практический опыт. С другой стороны - на минимальном уровне теорию все равно знать необходимо.
Комическим образом я начала читать это учебник весной прошлого года, когда в силу разных рабочих орг. причин знания в этой области стали для меня актуальными, и добила только сейчас, когда они уже, слава богу, не актуальны. А то я из вуза не помню в этой области примерно ничего; с одной стороны, ни в какой другой отрасли права, с какими я сталкивалась, так мало ни значило бы простое знание теории и так много - практический опыт. С другой стороны - на минимальном уровне теорию все равно знать необходимо. На эту я давно смотрела в книжных и не пожалела, что купила - легко и интересно написано. Автор - серьезный ученый-востоковед рассказывает в научно-популярной форме о том, как живёт Северная Корея, и про быт, и про политику, и про ментальность. Развенчивает всякие мифы типа "расстрел из миномёта" заодно.
На эту я давно смотрела в книжных и не пожалела, что купила - легко и интересно написано. Автор - серьезный ученый-востоковед рассказывает в научно-популярной форме о том, как живёт Северная Корея, и про быт, и про политику, и про ментальность. Развенчивает всякие мифы типа "расстрел из миномёта" заодно. Art by Hikaru Suruga, story by Gun Snark.
Art by Hikaru Suruga, story by Gun Snark. Очень интересный, хоть и непростой для восприятия научпоп по "общей теории всего". Хокинг в действительности описывает самые базовые вещи, но зато - от мала до велика. То есть начиная с того, как "устроены" и "работают" элементарные частицы - и заканчивая тем, как устроена и работает вся Вселенная. Про вселенную, конечно, больше, и это очень интересно, хоть и мне как гуманитарию понятно далеко не все. Вроде бы Хокинг пишет очень доступным языком и в книге действительно нет ни одной формулы, не считая E=mc2, но за некоторыми построениями я уследить не смогла - хотя думаю, люди с техническим складом ума смогут. Хокинг подробно описывает теории про зарождение и будущую гибель Вселенной, при этом не только описывая современное состояние проблемы, но и давая весьма приличные экскурсы в историю ее изучения. Очень интересно в нескольких местах проследить, как постепенно, за счет разных частично ошибочных, а частично правильных теорий, которые где-то дополняют друг друга, а где-то друг другу противоречат, рождается современное понимание - и тут очень четко понимаешь, что и современная точка зрения совсем необязательно правильная, а скорее - только ступенька на общем пути.
Очень интересный, хоть и непростой для восприятия научпоп по "общей теории всего". Хокинг в действительности описывает самые базовые вещи, но зато - от мала до велика. То есть начиная с того, как "устроены" и "работают" элементарные частицы - и заканчивая тем, как устроена и работает вся Вселенная. Про вселенную, конечно, больше, и это очень интересно, хоть и мне как гуманитарию понятно далеко не все. Вроде бы Хокинг пишет очень доступным языком и в книге действительно нет ни одной формулы, не считая E=mc2, но за некоторыми построениями я уследить не смогла - хотя думаю, люди с техническим складом ума смогут. Хокинг подробно описывает теории про зарождение и будущую гибель Вселенной, при этом не только описывая современное состояние проблемы, но и давая весьма приличные экскурсы в историю ее изучения. Очень интересно в нескольких местах проследить, как постепенно, за счет разных частично ошибочных, а частично правильных теорий, которые где-то дополняют друг друга, а где-то друг другу противоречат, рождается современное понимание - и тут очень четко понимаешь, что и современная точка зрения совсем необязательно правильная, а скорее - только ступенька на общем пути. Новый роман Сеттерфилд - в большой степени в духе предыдущего, "Тринадцатой сказки", а также - в духе всей предшестующей английской литературной традиции, ближайшим аналогом и вдохновителем и этого жанра, и этого слога я бы назвала Уилки Коллинза. Тут вам и тихая английская деревня, практически пастораль, но без вольтеровских пастушек и флейтистов, а с довольно суровым, пусть и привычным сельским бытом и простыми нравами. Тут и мистика, во всяком случае, обстоятельства, которые скорее удобнее объяснять некими таинственными мистическими причинами, чем искать им объяснение в рамках нашей скучной реальности. И семеные драмы, и даже немного детектив. Все это подано очень живо и с точки зрения разных персонажей, каждый из которых играет свою роль и смотрит под своим углом зрения (хозяйка сельской гостиницы, богатый помещик, сельская медсестра, бродяга, странствующий фотограф, молодой плут и прощелыга). Цельная картнина складывается далеко не сразу, но в этом и суть - читатель как бы собирает паззл из разных обстоятельств и разных точек зрения на эти обстоятельства, и только все вместе они образуют единую складную картину, в которой все мистические события находят свое рациональное объяснение.
Новый роман Сеттерфилд - в большой степени в духе предыдущего, "Тринадцатой сказки", а также - в духе всей предшестующей английской литературной традиции, ближайшим аналогом и вдохновителем и этого жанра, и этого слога я бы назвала Уилки Коллинза. Тут вам и тихая английская деревня, практически пастораль, но без вольтеровских пастушек и флейтистов, а с довольно суровым, пусть и привычным сельским бытом и простыми нравами. Тут и мистика, во всяком случае, обстоятельства, которые скорее удобнее объяснять некими таинственными мистическими причинами, чем искать им объяснение в рамках нашей скучной реальности. И семеные драмы, и даже немного детектив. Все это подано очень живо и с точки зрения разных персонажей, каждый из которых играет свою роль и смотрит под своим углом зрения (хозяйка сельской гостиницы, богатый помещик, сельская медсестра, бродяга, странствующий фотограф, молодой плут и прощелыга). Цельная картнина складывается далеко не сразу, но в этом и суть - читатель как бы собирает паззл из разных обстоятельств и разных точек зрения на эти обстоятельства, и только все вместе они образуют единую складную картину, в которой все мистические события находят свое рациональное объяснение. Все-таки Булгаков чертовски хорошо пишет! Мне кажется, он и расписание поездов мог бы написать так, чтобы каждая фраза была шедервом, а все вместе - смешно и захватывающе. С историей Мольера получилось так же. По сути это биография, уж не знаю, насколько подробная и достоверная, но Булгаков ссылается на достаточно большой объем проверяемой информации - думаю, он честно отработал с доступными источниками (вряд ли уж он сам придумывал суммы, которые собирали те или иные спектакли, даром что художественной пользы от этого чуть). Булгаков прослеживает жизнь Мольера от рождения до смерти, заодно немного захватывая и историю Франции - а там есть, что захватить, учитывая, что под конец своих дней Мольер руководил придорным театром Короля-Солнце, и сам Людовик периодически появляется на сцене как у Булгакова, так и у Мольера. Изображенный Булгаковом Людовик, кстати, и правда очень умный человек - не говоря уж о том, что его покровительству не в последнюю очередь Мольер обязан своей славе и местом в числе бессмертных.
Все-таки Булгаков чертовски хорошо пишет! Мне кажется, он и расписание поездов мог бы написать так, чтобы каждая фраза была шедервом, а все вместе - смешно и захватывающе. С историей Мольера получилось так же. По сути это биография, уж не знаю, насколько подробная и достоверная, но Булгаков ссылается на достаточно большой объем проверяемой информации - думаю, он честно отработал с доступными источниками (вряд ли уж он сам придумывал суммы, которые собирали те или иные спектакли, даром что художественной пользы от этого чуть). Булгаков прослеживает жизнь Мольера от рождения до смерти, заодно немного захватывая и историю Франции - а там есть, что захватить, учитывая, что под конец своих дней Мольер руководил придорным театром Короля-Солнце, и сам Людовик периодически появляется на сцене как у Булгакова, так и у Мольера. Изображенный Булгаковом Людовик, кстати, и правда очень умный человек - не говоря уж о том, что его покровительству не в последнюю очередь Мольер обязан своей славе и местом в числе бессмертных.