В общем, обоснуй сурово повержен авторским произволом, причем лажа в самой базовой идее книги и всего этого общества, так что она неисправима.
Что до остального - автор так и не определилась, пишет ли она любовный романчик типа "рабыня Изаура", про любовь богатенького наследника и бедненькой рабыньки - или же боевичок про восстание масс против угнетателей. В итоге ни то, ни то не вышло, обе сюжетные линии в конце скомкались и закончились полной ерундой.
Герои картонные, а представление автора о том, как ведут себя представители высшлего общества во многих поколениях, а также "гениальные политики", не выдерживают никакой критики - и те, и другие у нее выходят хамоватым бабьем из полусветской хроники глянцевых журналов. И все разборки Равных между собой на их политических сборищах - просто позорище, удивительно, что с такими правителями Британию не захватила до сих пор страна поумнее.
Название "Золотая клетка", а также красивая обложка не имеют ничего общего с содержанием. Читать в принцие, конечно, можно, но не стоит. Текст очень так себе, и перевод тоже так себе (переводчику стоило бы погуглить, что caucasian - это не "кавказской" внешности, а "европеец", т.е. человек белой расы).






 Я знать не знала об этом поэте и об этой поэме, если бы издатель не подарил по случаю книжку моему мужу. Ну, положа руку на сердце, кого вы знаете из греческих поэтов, кроме Кавафиса? Ага! А между тем Элитис лауреат Нобелевской премии, причем довольно давнишней, но эту поэму, его opus magnum, перевели и издали только в этом году. За что спасибо.
Я знать не знала об этом поэте и об этой поэме, если бы издатель не подарил по случаю книжку моему мужу. Ну, положа руку на сердце, кого вы знаете из греческих поэтов, кроме Кавафиса? Ага! А между тем Элитис лауреат Нобелевской премии, причем довольно давнишней, но эту поэму, его opus magnum, перевели и издали только в этом году. За что спасибо.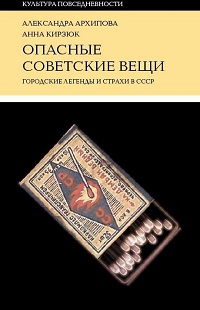
 Не сразу меня осенило, что "Симплициссимус" - это тот же Швейк, только 17 века. И герой, и стилистика, и антураж - все сходится. Швейк подвизался на Первой мировой войне, а Симплициссимус большую часть своей карьеры - на Тридцатилетней. И тот, и другой - одновременно простодушны и пронырливы, а оба склонны к юмору и шуточкам над ближними своими, и повествуют о происходящем вокруг треше так, что читателю смешно, хотя, если вдуматься, то должно быть страшно.
Не сразу меня осенило, что "Симплициссимус" - это тот же Швейк, только 17 века. И герой, и стилистика, и антураж - все сходится. Швейк подвизался на Первой мировой войне, а Симплициссимус большую часть своей карьеры - на Тридцатилетней. И тот, и другой - одновременно простодушны и пронырливы, а оба склонны к юмору и шуточкам над ближними своими, и повествуют о происходящем вокруг треше так, что читателю смешно, хотя, если вдуматься, то должно быть страшно. Эта книга, можно сказать, парная к
Эта книга, можно сказать, парная к  У меня очень неоднозначное впечатление; в целом я люблю трагедии Шекспира за то, что они при своей своей растиражированности и "попсовости" действительно задевают за живое - но вот в "Лире" на меня произвело эмоциональное впечатление только несчастье Глостеров, а отнюдь не самого Лира. В целом понятно, за что так пострадал Глостер-отец - ведь он сначала предал собственного сына, поверив наветам его сводного брата и не дав тому шанса оправдаться. Глостер-сын пострадал за собственную наивность и глупость, известно, в большой семье клювом не щелкай. Зато из него вышел отличный бродяга, который своими речами, на мой взгляд, украсил пьесу даже больше, чем шут Лира.
У меня очень неоднозначное впечатление; в целом я люблю трагедии Шекспира за то, что они при своей своей растиражированности и "попсовости" действительно задевают за живое - но вот в "Лире" на меня произвело эмоциональное впечатление только несчастье Глостеров, а отнюдь не самого Лира. В целом понятно, за что так пострадал Глостер-отец - ведь он сначала предал собственного сына, поверив наветам его сводного брата и не дав тому шанса оправдаться. Глостер-сын пострадал за собственную наивность и глупость, известно, в большой семье клювом не щелкай. Зато из него вышел отличный бродяга, который своими речами, на мой взгляд, украсил пьесу даже больше, чем шут Лира.  Почему-то именно про Плутарха сложно сказать что-то особенное, как, например, про Геродота, Светония или Саллюстия. И дело не в том, что он плох - наоборот, он очень ровно хорош. По-моему, Плутарх пишет именно так, как вообще идеально писать на эту тему, местами подсвечивая характеры своих героев, местами - рассказывая о их семье и происхождении, временами делая лирические отступления, но ровно в меру. В нем как-то действительно всего очень в меру, и текст нельзя в целом назвать ни трагическим, ни комическим, ни строго биографическим - потому что, конечно, Плутарх рассматривает в целом эпоху и достаточно детально изучает всю совокупность происходящих вокруг событий, чтобы можно было составить впечатление о том, какое влияние оказал конкретный деятель на то, что происходило вообще в его стране и вокруг, кто влиял на его решения и почему обстоятельства были именно таковы. Это удивительное свойство, в общем, при таком широком размахе и таком разнообразии описываемых известных личностей из разных стран и эпох во всех случаях суметь создать у читателя не просто полное понимание характера и причин поступков героя, но и ситуации, в которой он действовал, в целом, да еще и на протяжении всей жизни.
Почему-то именно про Плутарха сложно сказать что-то особенное, как, например, про Геродота, Светония или Саллюстия. И дело не в том, что он плох - наоборот, он очень ровно хорош. По-моему, Плутарх пишет именно так, как вообще идеально писать на эту тему, местами подсвечивая характеры своих героев, местами - рассказывая о их семье и происхождении, временами делая лирические отступления, но ровно в меру. В нем как-то действительно всего очень в меру, и текст нельзя в целом назвать ни трагическим, ни комическим, ни строго биографическим - потому что, конечно, Плутарх рассматривает в целом эпоху и достаточно детально изучает всю совокупность происходящих вокруг событий, чтобы можно было составить впечатление о том, какое влияние оказал конкретный деятель на то, что происходило вообще в его стране и вокруг, кто влиял на его решения и почему обстоятельства были именно таковы. Это удивительное свойство, в общем, при таком широком размахе и таком разнообразии описываемых известных личностей из разных стран и эпох во всех случаях суметь создать у читателя не просто полное понимание характера и причин поступков героя, но и ситуации, в которой он действовал, в целом, да еще и на протяжении всей жизни. Если бы все хроники XII-XIII века были такими, я бы только их и читала, потому что ничего более комического и при этом одновременно познавательного и вообразить нельзя.
Если бы все хроники XII-XIII века были такими, я бы только их и читала, потому что ничего более комического и при этом одновременно познавательного и вообразить нельзя.




