 Итак, первая моя прочитанная на итальянском неадаптированная
Итак, первая моя прочитанная на итальянском неадаптированная Почему-то итальянские издания Colossal edition не бьются по наполнению с английскими. В этом издании у меня главы с 14 по 26, а в английском Colossal edition 1 были с 1 по 22, то есть они сильно пересекаются. В чем смысл, спрашивается? По качеству английское издание было лучше - бумага тоньше, перед главами вставки с цветными иллюстрациями, а это сплошняком черно-белое. Впрочем, я обожаю эту мангу, так что мне все ок.
Последние главы, на которых заканчивается издание - про первое появление женщины-титата - просто огонь! Приятно, что аниме реально очень близко к манге, единственное, чего я не увидела в тексте - это того концепта, что в Военную полицию (Corpo di gendarmeria) берут только топ-10 курсантов, похоже, это изобретение создателей аниме. Зато Легион разведки красиво называется Armata Ricognitiva, а их символ, "Крылья свободы" соответственно - "Le Ali della Libertà". В остальном - все то же. Леви реально хам, но это очень мило, и мне нравится, что он единственный из всех героев пытается взывать к чужому разуму. Увы, к разуму Эрена взывать бесполезно, с тем же успехом можно к Макаронному монстру, он вернее существует. Остальные все те же, в общем, это "старая" часть сюжета, давно известная всем фанатам и близко воспроизведенная в аниме, про нее и сказать особо нечего.



 Вначале мне показалось, что новеллы Мопассана - такие образцово "средние" применительно к своему жанру и эпохе. По первым нескольким новеллам из сборника можно было признать только то, что они неплохо написаны, при этом совершенно предсказуемые в плане сюжета и характеров. И при этом - совершенно ничем не выделяются ни в плохую, ни в хорошую сторону; и сюжет, и характеры сбалансированы, все аккуратно, не затянуто, без малейших странностей - ровно то, что и ожидаешь от классической новеллы конца 19 века. В целом я была готова к тому, что весь Мопассан окажется таким образцово "никаким": тщательно, как по учебнику, выстроенный сюжет, простенький, но с пуантом, два-три персонажа, каждый - узнаваемая "маска".
Вначале мне показалось, что новеллы Мопассана - такие образцово "средние" применительно к своему жанру и эпохе. По первым нескольким новеллам из сборника можно было признать только то, что они неплохо написаны, при этом совершенно предсказуемые в плане сюжета и характеров. И при этом - совершенно ничем не выделяются ни в плохую, ни в хорошую сторону; и сюжет, и характеры сбалансированы, все аккуратно, не затянуто, без малейших странностей - ровно то, что и ожидаешь от классической новеллы конца 19 века. В целом я была готова к тому, что весь Мопассан окажется таким образцово "никаким": тщательно, как по учебнику, выстроенный сюжет, простенький, но с пуантом, два-три персонажа, каждый - узнаваемая "маска".  Это самый наукообразный научпоп про динозавров, что я читала. Авторы - профессиональные ученые (а не просто продвинутые любители, в отличие от многих авторов подобных книг), и пишут именно с этой позиции. Это очень заметно по содержанию и по акцентам: структурно книга выдержана так, как можно было бы написать именно с научной точки зрения про любой биологический вид с целью дать ему общую характеристику: общий исторический экскурс, систематика динозавров, анатомия динозавров, биология и поведение динозавров. Вместо динозавров можно подставить "домашних коров" - и будет такой же качественный и полный с т.зр. широты охвата обзор. Не хватает только раздела "использование в сельском хозяйстве", но вместо него есть раздел "происхождение птиц", которые, как известно, те же динозавры.
Это самый наукообразный научпоп про динозавров, что я читала. Авторы - профессиональные ученые (а не просто продвинутые любители, в отличие от многих авторов подобных книг), и пишут именно с этой позиции. Это очень заметно по содержанию и по акцентам: структурно книга выдержана так, как можно было бы написать именно с научной точки зрения про любой биологический вид с целью дать ему общую характеристику: общий исторический экскурс, систематика динозавров, анатомия динозавров, биология и поведение динозавров. Вместо динозавров можно подставить "домашних коров" - и будет такой же качественный и полный с т.зр. широты охвата обзор. Не хватает только раздела "использование в сельском хозяйстве", но вместо него есть раздел "происхождение птиц", которые, как известно, те же динозавры. Уникальный роман: все трое ключевых персонажей (я считаю пресловутого Генриха тоже) соответствуют определению "психованная истеричка". Двое из них мужчины, что характерно. Сопуствующая статья Ходасевича объясняет, что это такая примета эпохи, одно из обязательств, накладываемых символизмом - давить из себя эмоции до края и через край, если сами не лезут, то хотя бы делать вид, что они есть. Такая мода на эмоциональную разнузданность и общую неадекватность. Что ж, может быть, но у разных авторов Серебряного века и из символистов в частности это проявляется, видимо, по-разному, а вот в романе Брюсова приобрело черты такой классической женской истерии - от которой еще незадолго до времени написания романа лечили электричеством.
Уникальный роман: все трое ключевых персонажей (я считаю пресловутого Генриха тоже) соответствуют определению "психованная истеричка". Двое из них мужчины, что характерно. Сопуствующая статья Ходасевича объясняет, что это такая примета эпохи, одно из обязательств, накладываемых символизмом - давить из себя эмоции до края и через край, если сами не лезут, то хотя бы делать вид, что они есть. Такая мода на эмоциональную разнузданность и общую неадекватность. Что ж, может быть, но у разных авторов Серебряного века и из символистов в частности это проявляется, видимо, по-разному, а вот в романе Брюсова приобрело черты такой классической женской истерии - от которой еще незадолго до времени написания романа лечили электричеством. 
 Еще одна книга на популярную тему: что нам говорит (а точнее, могло бы говорить, если бы мы были чуть образованнее) средневековое искусство. Автор не задается целью объять необъятное, потому что количество мотивов, смыслов и символов в сабже действительно неисчерпаемо, и анализируя каждый из них, можно закопаться в такие глубины, что и на один книги не хватит. Он выбрал с десяток интересных и не самых тривиальных мотивов в средневековом визуальном искусстве и разбирает их, отчасти углубляясь в историю их появления, отчасти - пытаясь логически объяснить там, где история не помогает.
Еще одна книга на популярную тему: что нам говорит (а точнее, могло бы говорить, если бы мы были чуть образованнее) средневековое искусство. Автор не задается целью объять необъятное, потому что количество мотивов, смыслов и символов в сабже действительно неисчерпаемо, и анализируя каждый из них, можно закопаться в такие глубины, что и на один книги не хватит. Он выбрал с десяток интересных и не самых тривиальных мотивов в средневековом визуальном искусстве и разбирает их, отчасти углубляясь в историю их появления, отчасти - пытаясь логически объяснить там, где история не помогает. ). И если вы вдруг не знали, кто такие эти люди на картинах и почему у них в руках эти странные предметы - вот и узнаете. А кто знал, увидит еще множество вариаций подобных изображений.
). И если вы вдруг не знали, кто такие эти люди на картинах и почему у них в руках эти странные предметы - вот и узнаете. А кто знал, увидит еще множество вариаций подобных изображений. 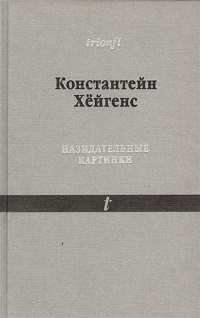 Хёйгенс (как я выяснила из статьи переводчика) - величайший поэт Гааги, нидерландский классик 17 века. Не скажу, что вообще сколь-либо знакома с нидерлансдкой литературой (не считая Йохана Хёзинги, не назову ни одного имени ни в одной эпохе, увы), а с поэзией так и подавно. Между тем она есть, и ее даже в значимых объемах переводят на русский язык.
Хёйгенс (как я выяснила из статьи переводчика) - величайший поэт Гааги, нидерландский классик 17 века. Не скажу, что вообще сколь-либо знакома с нидерлансдкой литературой (не считая Йохана Хёзинги, не назову ни одного имени ни в одной эпохе, увы), а с поэзией так и подавно. Между тем она есть, и ее даже в значимых объемах переводят на русский язык. Этот том Муратова показался наиболее теплым и близким мне. Дело в том, наверное, что он посвящен в большей мере самым любимым и хорошо изученным мной регионам Италии - Умбрии и Ломбардии. Умбрия - это вообще бесконечная любовь, я не знаю места лучше в мире. В большей части городов, которым посвящены отдельные главки, я была, и соответствующие картины и фрески тоже видела. Правда, увы, у меня не "художественная" память. Вот муж мой помнит, в каком соборе чьи фрески - а я помню, как идти к тому собору от парковки и какие там цветущие кусты росли по дороге. Так что с упоминаемыми Муратовым городами у меня тоже свои ассоциации, подчас совершенно противоположные его впечатлению. Конечно, и сто лет прошло, ситуация в Италии изменилась. Но я никак не назвала бы Ассизи тихим городом, точно так же как и Бергамо - мрачным и скучным.
Этот том Муратова показался наиболее теплым и близким мне. Дело в том, наверное, что он посвящен в большей мере самым любимым и хорошо изученным мной регионам Италии - Умбрии и Ломбардии. Умбрия - это вообще бесконечная любовь, я не знаю места лучше в мире. В большей части городов, которым посвящены отдельные главки, я была, и соответствующие картины и фрески тоже видела. Правда, увы, у меня не "художественная" память. Вот муж мой помнит, в каком соборе чьи фрески - а я помню, как идти к тому собору от парковки и какие там цветущие кусты росли по дороге. Так что с упоминаемыми Муратовым городами у меня тоже свои ассоциации, подчас совершенно противоположные его впечатлению. Конечно, и сто лет прошло, ситуация в Италии изменилась. Но я никак не назвала бы Ассизи тихим городом, точно так же как и Бергамо - мрачным и скучным. 
 Наверное, самая толковая книга по IP in IT, которую я знаю, из полноценных монографий. Большой плюс - в том, что автор - практикующий юрист, причем не где-нибудь, а в российском IBM, и, соответственно, отлично себе представляет, как те или иные вещи реализуются на практике. В отличие от монографии уважаемого мной судьи Корнеева, который гораздо больше углублен в теоретическую составляющую.
Наверное, самая толковая книга по IP in IT, которую я знаю, из полноценных монографий. Большой плюс - в том, что автор - практикующий юрист, причем не где-нибудь, а в российском IBM, и, соответственно, отлично себе представляет, как те или иные вещи реализуются на практике. В отличие от монографии уважаемого мной судьи Корнеева, который гораздо больше углублен в теоретическую составляющую. Полный (как я понимаю) сборник стихов Мандельштама - я поразилась, как их, по сути, мало. Чуть больше 300 страниц за всю жизнь, мне-то казалось, что у Мандельштама оставалось много неизвестных мне стихов, но нет, увы, почти нет.
Полный (как я понимаю) сборник стихов Мандельштама - я поразилась, как их, по сути, мало. Чуть больше 300 страниц за всю жизнь, мне-то казалось, что у Мандельштама оставалось много неизвестных мне стихов, но нет, увы, почти нет.
 Меня неизменно восхищают стихи Мандельштама и неизменно ужасает его биография. В чем-то он - квинтэссенция такого обывательского представления о настоящем поэте: не от мира сего, несовременный до такой степени, что никогда не будет современен никакому времени, дерганый, самовлюбленный, неспособный к систематическому труду и к любому "подстраиванию" под дух эпохи и сильных мира сего. Все это воплощается в характере Мандельштама и определяет его печальную биографию - несмотря на все попытки окружающих спасти его от самого себя в том числе. Это вам не тайный советник Гете, успешный чиновник и придворный, эффективный распорядитель своего времени и способностей. И это не вопрос таланта, кстати, а вопрос всего остального, помимо таланта. У Мандельштама это все остальное дает такой надрыв, что он прорывается даже в шуточных детских стихах, даже добросовестная попытка написать оду советской власти оборачивается так, что лучше б ее не было вовсе.
Меня неизменно восхищают стихи Мандельштама и неизменно ужасает его биография. В чем-то он - квинтэссенция такого обывательского представления о настоящем поэте: не от мира сего, несовременный до такой степени, что никогда не будет современен никакому времени, дерганый, самовлюбленный, неспособный к систематическому труду и к любому "подстраиванию" под дух эпохи и сильных мира сего. Все это воплощается в характере Мандельштама и определяет его печальную биографию - несмотря на все попытки окружающих спасти его от самого себя в том числе. Это вам не тайный советник Гете, успешный чиновник и придворный, эффективный распорядитель своего времени и способностей. И это не вопрос таланта, кстати, а вопрос всего остального, помимо таланта. У Мандельштама это все остальное дает такой надрыв, что он прорывается даже в шуточных детских стихах, даже добросовестная попытка написать оду советской власти оборачивается так, что лучше б ее не было вовсе.
 Подзаголовок: Lessons from the aviation industry when dealing with error
Подзаголовок: Lessons from the aviation industry when dealing with error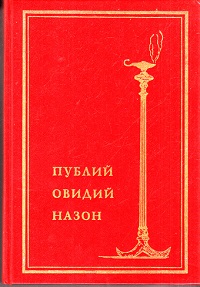
 Дневники Кузмина, пожалуй, будут интересны только тому, кто любит самого автора - и его писания, и его личность. Ну или интересуется историей литературы и Серебряным веком в частности. Они не то чтобы обладают какой-то высокой художественной ценностью сами по себе (таких дневников вообще очень мало, чего уж там), но представляют собой и очень выпуклый портрет автора, и интересную картинку эпохи.
Дневники Кузмина, пожалуй, будут интересны только тому, кто любит самого автора - и его писания, и его личность. Ну или интересуется историей литературы и Серебряным веком в частности. Они не то чтобы обладают какой-то высокой художественной ценностью сами по себе (таких дневников вообще очень мало, чего уж там), но представляют собой и очень выпуклый портрет автора, и интересную картинку эпохи.