 Это сборник сайдстори к миру Земноморья; входящих в него повестей нет единого сюжета, все они происходят в разное время и с разными героями. Историю Геда, главного героя цикла, затрагивает лишь одна из них, и то по касательной - "The Bones of the Earth", в которой говорится о его учителе Огионе, когда тот еще сам был учеником и носил имя Silence.
Это сборник сайдстори к миру Земноморья; входящих в него повестей нет единого сюжета, все они происходят в разное время и с разными героями. Историю Геда, главного героя цикла, затрагивает лишь одна из них, и то по касательной - "The Bones of the Earth", в которой говорится о его учителе Огионе, когда тот еще сам был учеником и носил имя Silence. Эмоционально истории тоже разные, их объединяет лишь одна тема: они все про магию. И при этом "правильная" магия согласно заветам Эррета-Акбе совсем необязательно является правильным выбором в той ситуации, в которой оказываются герои. Такое впечатление, что, составляя этот сборник, Урсула пыталась, вольно или невольно, представить максимально разные стороны и обстоятельства в жизни мага. В каждой из ситуаций сделанный ими выбор был по сути необходимым и единственно правильным, и каждый выбор отличался от другого.
История про молодого Огиона, на мой взгляд, в наибольшей степени соответствует тому, что ожидаешь от сайд-стори по миру Земноморья: камерная история с известным персонажем, представленным совсем в другом возрасте и другом окружении. А вот все остальные - скорее бросают вызов устоям. "Dragonfly" - своей неожиданной и вместе с тем какой-то предчувствованной, очень правильной концовкой. Это такая мораль Ле Гуин, к которой легко приспособиться, если много ее читаешь: категорически уверенные в своей правоте и настаивающие на ней с агрессивностью герои оказываются неправы, даже когда защищают, казалось бы, очевидные и вполне разумные истины. А правы оказываются сомневающиеся, те, кто почувствовал на кончиках пальцев перемену атмосферы.
Или вот еще: нет никакого правильного выбора, кроме того, к чему тебя влечет сердце - даже если всем остальным этот выбор кажется не просто странным, а вопиющим растрачиванием талантов. Об этом - "Darkrose and Diamond", история вполне в духе Уайлда, мне показавшаяся слегка поверхностной.
"On the High March" - интересный взгляд на известые события, как отголосок далекого грома там, куда точно не придет гроза.
"The Finder" - первая и самая эпичная по сути история из сборника. История о том, откуда пошла школа магов на острове Рок, и о первом Привратнике. Неожиданно жестокая для Ле Гуин, хотя у нее попадаются такие вещи.
Мне лично ближе всего все-таки история про Огиона. Во-первый, я очень люблю этого персонажа, и во-вторых, она какая-то самая уютная и правильная в эмоциональном смысле, в ней есть драма, но нет конфликта.



 Когда я искала какие-то приличные книги по современной японистике, на всех ресурсах в один голос советовали именно Мещерякова. Купила - и не прогадала, буду дальше читать это автора. И дело даже не в том, что японистика как таковая мне так уж интересно - но это тот случай, когда подкупает в первую очередь сам авторский подход к материалу, сочетание глубины проработки с логикой построения и манерой изложения. Пожалуй, раньше я видела такой класс только у Аверинцева: когда серьезную научную работу по не слишком близкой тебе теме читаешь с большим интересом и воодушевлением, чем фантастический роман, настолько она стройна и хороша.
Когда я искала какие-то приличные книги по современной японистике, на всех ресурсах в один голос советовали именно Мещерякова. Купила - и не прогадала, буду дальше читать это автора. И дело даже не в том, что японистика как таковая мне так уж интересно - но это тот случай, когда подкупает в первую очередь сам авторский подход к материалу, сочетание глубины проработки с логикой построения и манерой изложения. Пожалуй, раньше я видела такой класс только у Аверинцева: когда серьезную научную работу по не слишком близкой тебе теме читаешь с большим интересом и воодушевлением, чем фантастический роман, настолько она стройна и хороша. Муркок странный автор. Это третий его роман, который я прочитала. Все три - очень разные. Но при этом на мой вкус все три одинаково ужасны в плане буквально всего: сюжета, персонажей, психологии (точнее, ее полного отсутствия), стилистики и пр. На это нужен большой талант: как правило, авторы, которые пишут плохо, пишут одинаково плохо, а Муркок еще - плохо и заковыристо. Или мне так "везло" с подбором текстов, уж не знаю.
Муркок странный автор. Это третий его роман, который я прочитала. Все три - очень разные. Но при этом на мой вкус все три одинаково ужасны в плане буквально всего: сюжета, персонажей, психологии (точнее, ее полного отсутствия), стилистики и пр. На это нужен большой талант: как правило, авторы, которые пишут плохо, пишут одинаково плохо, а Муркок еще - плохо и заковыристо. Или мне так "везло" с подбором текстов, уж не знаю. Это замечательное исследование британского востоковеда, как можно догадаться по названию, посвящено японскому миру эпохи Хэйан вообще и его преломлении в "Повести о Гэндзи" - в частности. Собственно, это эпоха исследуется сквозь призму романа Мурасаки Сикибу, а не наоборот, так что, пожалуй, не читавшим ни Мурасаки, ни Сэй-Сёнагон, будет скорее неинтересно (во всяком случае, много чего непонятно).
Это замечательное исследование британского востоковеда, как можно догадаться по названию, посвящено японскому миру эпохи Хэйан вообще и его преломлении в "Повести о Гэндзи" - в частности. Собственно, это эпоха исследуется сквозь призму романа Мурасаки Сикибу, а не наоборот, так что, пожалуй, не читавшим ни Мурасаки, ни Сэй-Сёнагон, будет скорее неинтересно (во всяком случае, много чего непонятно). 







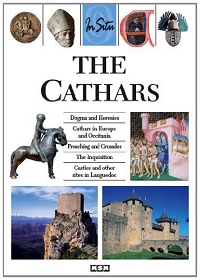
 Итак, первая моя прочитанная на итальянском неадаптированная
Итак, первая моя прочитанная на итальянском неадаптированная  Вначале мне показалось, что новеллы Мопассана - такие образцово "средние" применительно к своему жанру и эпохе. По первым нескольким новеллам из сборника можно было признать только то, что они неплохо написаны, при этом совершенно предсказуемые в плане сюжета и характеров. И при этом - совершенно ничем не выделяются ни в плохую, ни в хорошую сторону; и сюжет, и характеры сбалансированы, все аккуратно, не затянуто, без малейших странностей - ровно то, что и ожидаешь от классической новеллы конца 19 века. В целом я была готова к тому, что весь Мопассан окажется таким образцово "никаким": тщательно, как по учебнику, выстроенный сюжет, простенький, но с пуантом, два-три персонажа, каждый - узнаваемая "маска".
Вначале мне показалось, что новеллы Мопассана - такие образцово "средние" применительно к своему жанру и эпохе. По первым нескольким новеллам из сборника можно было признать только то, что они неплохо написаны, при этом совершенно предсказуемые в плане сюжета и характеров. И при этом - совершенно ничем не выделяются ни в плохую, ни в хорошую сторону; и сюжет, и характеры сбалансированы, все аккуратно, не затянуто, без малейших странностей - ровно то, что и ожидаешь от классической новеллы конца 19 века. В целом я была готова к тому, что весь Мопассан окажется таким образцово "никаким": тщательно, как по учебнику, выстроенный сюжет, простенький, но с пуантом, два-три персонажа, каждый - узнаваемая "маска".  Это самый наукообразный научпоп про динозавров, что я читала. Авторы - профессиональные ученые (а не просто продвинутые любители, в отличие от многих авторов подобных книг), и пишут именно с этой позиции. Это очень заметно по содержанию и по акцентам: структурно книга выдержана так, как можно было бы написать именно с научной точки зрения про любой биологический вид с целью дать ему общую характеристику: общий исторический экскурс, систематика динозавров, анатомия динозавров, биология и поведение динозавров. Вместо динозавров можно подставить "домашних коров" - и будет такой же качественный и полный с т.зр. широты охвата обзор. Не хватает только раздела "использование в сельском хозяйстве", но вместо него есть раздел "происхождение птиц", которые, как известно, те же динозавры.
Это самый наукообразный научпоп про динозавров, что я читала. Авторы - профессиональные ученые (а не просто продвинутые любители, в отличие от многих авторов подобных книг), и пишут именно с этой позиции. Это очень заметно по содержанию и по акцентам: структурно книга выдержана так, как можно было бы написать именно с научной точки зрения про любой биологический вид с целью дать ему общую характеристику: общий исторический экскурс, систематика динозавров, анатомия динозавров, биология и поведение динозавров. Вместо динозавров можно подставить "домашних коров" - и будет такой же качественный и полный с т.зр. широты охвата обзор. Не хватает только раздела "использование в сельском хозяйстве", но вместо него есть раздел "происхождение птиц", которые, как известно, те же динозавры. Уникальный роман: все трое ключевых персонажей (я считаю пресловутого Генриха тоже) соответствуют определению "психованная истеричка". Двое из них мужчины, что характерно. Сопуствующая статья Ходасевича объясняет, что это такая примета эпохи, одно из обязательств, накладываемых символизмом - давить из себя эмоции до края и через край, если сами не лезут, то хотя бы делать вид, что они есть. Такая мода на эмоциональную разнузданность и общую неадекватность. Что ж, может быть, но у разных авторов Серебряного века и из символистов в частности это проявляется, видимо, по-разному, а вот в романе Брюсова приобрело черты такой классической женской истерии - от которой еще незадолго до времени написания романа лечили электричеством.
Уникальный роман: все трое ключевых персонажей (я считаю пресловутого Генриха тоже) соответствуют определению "психованная истеричка". Двое из них мужчины, что характерно. Сопуствующая статья Ходасевича объясняет, что это такая примета эпохи, одно из обязательств, накладываемых символизмом - давить из себя эмоции до края и через край, если сами не лезут, то хотя бы делать вид, что они есть. Такая мода на эмоциональную разнузданность и общую неадекватность. Что ж, может быть, но у разных авторов Серебряного века и из символистов в частности это проявляется, видимо, по-разному, а вот в романе Брюсова приобрело черты такой классической женской истерии - от которой еще незадолго до времени написания романа лечили электричеством. 
 Еще одна книга на популярную тему: что нам говорит (а точнее, могло бы говорить, если бы мы были чуть образованнее) средневековое искусство. Автор не задается целью объять необъятное, потому что количество мотивов, смыслов и символов в сабже действительно неисчерпаемо, и анализируя каждый из них, можно закопаться в такие глубины, что и на один книги не хватит. Он выбрал с десяток интересных и не самых тривиальных мотивов в средневековом визуальном искусстве и разбирает их, отчасти углубляясь в историю их появления, отчасти - пытаясь логически объяснить там, где история не помогает.
Еще одна книга на популярную тему: что нам говорит (а точнее, могло бы говорить, если бы мы были чуть образованнее) средневековое искусство. Автор не задается целью объять необъятное, потому что количество мотивов, смыслов и символов в сабже действительно неисчерпаемо, и анализируя каждый из них, можно закопаться в такие глубины, что и на один книги не хватит. Он выбрал с десяток интересных и не самых тривиальных мотивов в средневековом визуальном искусстве и разбирает их, отчасти углубляясь в историю их появления, отчасти - пытаясь логически объяснить там, где история не помогает. ). И если вы вдруг не знали, кто такие эти люди на картинах и почему у них в руках эти странные предметы - вот и узнаете. А кто знал, увидит еще множество вариаций подобных изображений.
). И если вы вдруг не знали, кто такие эти люди на картинах и почему у них в руках эти странные предметы - вот и узнаете. А кто знал, увидит еще множество вариаций подобных изображений. 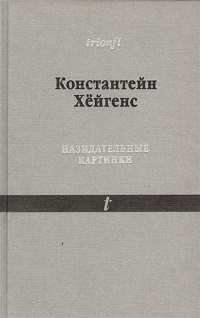 Хёйгенс (как я выяснила из статьи переводчика) - величайший поэт Гааги, нидерландский классик 17 века. Не скажу, что вообще сколь-либо знакома с нидерлансдкой литературой (не считая Йохана Хёзинги, не назову ни одного имени ни в одной эпохе, увы), а с поэзией так и подавно. Между тем она есть, и ее даже в значимых объемах переводят на русский язык.
Хёйгенс (как я выяснила из статьи переводчика) - величайший поэт Гааги, нидерландский классик 17 века. Не скажу, что вообще сколь-либо знакома с нидерлансдкой литературой (не считая Йохана Хёзинги, не назову ни одного имени ни в одной эпохе, увы), а с поэзией так и подавно. Между тем она есть, и ее даже в значимых объемах переводят на русский язык. Этот том Муратова показался наиболее теплым и близким мне. Дело в том, наверное, что он посвящен в большей мере самым любимым и хорошо изученным мной регионам Италии - Умбрии и Ломбардии. Умбрия - это вообще бесконечная любовь, я не знаю места лучше в мире. В большей части городов, которым посвящены отдельные главки, я была, и соответствующие картины и фрески тоже видела. Правда, увы, у меня не "художественная" память. Вот муж мой помнит, в каком соборе чьи фрески - а я помню, как идти к тому собору от парковки и какие там цветущие кусты росли по дороге. Так что с упоминаемыми Муратовым городами у меня тоже свои ассоциации, подчас совершенно противоположные его впечатлению. Конечно, и сто лет прошло, ситуация в Италии изменилась. Но я никак не назвала бы Ассизи тихим городом, точно так же как и Бергамо - мрачным и скучным.
Этот том Муратова показался наиболее теплым и близким мне. Дело в том, наверное, что он посвящен в большей мере самым любимым и хорошо изученным мной регионам Италии - Умбрии и Ломбардии. Умбрия - это вообще бесконечная любовь, я не знаю места лучше в мире. В большей части городов, которым посвящены отдельные главки, я была, и соответствующие картины и фрески тоже видела. Правда, увы, у меня не "художественная" память. Вот муж мой помнит, в каком соборе чьи фрески - а я помню, как идти к тому собору от парковки и какие там цветущие кусты росли по дороге. Так что с упоминаемыми Муратовым городами у меня тоже свои ассоциации, подчас совершенно противоположные его впечатлению. Конечно, и сто лет прошло, ситуация в Италии изменилась. Но я никак не назвала бы Ассизи тихим городом, точно так же как и Бергамо - мрачным и скучным. 
 Наверное, самая толковая книга по IP in IT, которую я знаю, из полноценных монографий. Большой плюс - в том, что автор - практикующий юрист, причем не где-нибудь, а в российском IBM, и, соответственно, отлично себе представляет, как те или иные вещи реализуются на практике. В отличие от монографии уважаемого мной судьи Корнеева, который гораздо больше углублен в теоретическую составляющую.
Наверное, самая толковая книга по IP in IT, которую я знаю, из полноценных монографий. Большой плюс - в том, что автор - практикующий юрист, причем не где-нибудь, а в российском IBM, и, соответственно, отлично себе представляет, как те или иные вещи реализуются на практике. В отличие от монографии уважаемого мной судьи Корнеева, который гораздо больше углублен в теоретическую составляющую. Полный (как я понимаю) сборник стихов Мандельштама - я поразилась, как их, по сути, мало. Чуть больше 300 страниц за всю жизнь, мне-то казалось, что у Мандельштама оставалось много неизвестных мне стихов, но нет, увы, почти нет.
Полный (как я понимаю) сборник стихов Мандельштама - я поразилась, как их, по сути, мало. Чуть больше 300 страниц за всю жизнь, мне-то казалось, что у Мандельштама оставалось много неизвестных мне стихов, но нет, увы, почти нет.
 Меня неизменно восхищают стихи Мандельштама и неизменно ужасает его биография. В чем-то он - квинтэссенция такого обывательского представления о настоящем поэте: не от мира сего, несовременный до такой степени, что никогда не будет современен никакому времени, дерганый, самовлюбленный, неспособный к систематическому труду и к любому "подстраиванию" под дух эпохи и сильных мира сего. Все это воплощается в характере Мандельштама и определяет его печальную биографию - несмотря на все попытки окружающих спасти его от самого себя в том числе. Это вам не тайный советник Гете, успешный чиновник и придворный, эффективный распорядитель своего времени и способностей. И это не вопрос таланта, кстати, а вопрос всего остального, помимо таланта. У Мандельштама это все остальное дает такой надрыв, что он прорывается даже в шуточных детских стихах, даже добросовестная попытка написать оду советской власти оборачивается так, что лучше б ее не было вовсе.
Меня неизменно восхищают стихи Мандельштама и неизменно ужасает его биография. В чем-то он - квинтэссенция такого обывательского представления о настоящем поэте: не от мира сего, несовременный до такой степени, что никогда не будет современен никакому времени, дерганый, самовлюбленный, неспособный к систематическому труду и к любому "подстраиванию" под дух эпохи и сильных мира сего. Все это воплощается в характере Мандельштама и определяет его печальную биографию - несмотря на все попытки окружающих спасти его от самого себя в том числе. Это вам не тайный советник Гете, успешный чиновник и придворный, эффективный распорядитель своего времени и способностей. И это не вопрос таланта, кстати, а вопрос всего остального, помимо таланта. У Мандельштама это все остальное дает такой надрыв, что он прорывается даже в шуточных детских стихах, даже добросовестная попытка написать оду советской власти оборачивается так, что лучше б ее не было вовсе.