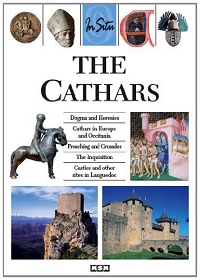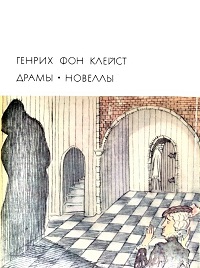 "Михаэль Кольхаас" - видимо, одна из самых известных, по крайней мере, самая интересная новелла. Муж уверял меня, что это драма. На мой вкус - это бюрократический фарс такого полета, что по сравнению с ним Мартин Макдона - просто ученик, со своими локальными трагифарсами на пять человек. Нет, Клейст знает, как развернуться. Из банальной житейской ситуации "мелкий аристократ обидел среднего торговца" он маленькими, очень логичными и разумными шажочками приходит к совершенно эпической картине народного восстания, масштабных военных действий и императора, который уже не может не вмешаться лично в отношения мелкого аристократа и среднего торговца. И все это - потому, что на всех рано или поздно найдется своя бюрократическая или иного рода узда, и главное в данном случае - упорство того самого лошадного барышника Михаэля Кольхааса, который хоть тушкой, хоть чучелком, а добился своего. Правда, последствия для него и для всего курфюршества были таковы, что лучше б, пожалуй, не добивался. Хотя с другой стороны - это вот именно такие люди, которые идут на несоразмерные жертвы и создают несоразмерные по тяжести последствия и добиваются перемен в обществе на глобальном уровне. А разумные люди, которые в какой-то момент отступают, поддерживают существующий порядок.
"Михаэль Кольхаас" - видимо, одна из самых известных, по крайней мере, самая интересная новелла. Муж уверял меня, что это драма. На мой вкус - это бюрократический фарс такого полета, что по сравнению с ним Мартин Макдона - просто ученик, со своими локальными трагифарсами на пять человек. Нет, Клейст знает, как развернуться. Из банальной житейской ситуации "мелкий аристократ обидел среднего торговца" он маленькими, очень логичными и разумными шажочками приходит к совершенно эпической картине народного восстания, масштабных военных действий и императора, который уже не может не вмешаться лично в отношения мелкого аристократа и среднего торговца. И все это - потому, что на всех рано или поздно найдется своя бюрократическая или иного рода узда, и главное в данном случае - упорство того самого лошадного барышника Михаэля Кольхааса, который хоть тушкой, хоть чучелком, а добился своего. Правда, последствия для него и для всего курфюршества были таковы, что лучше б, пожалуй, не добивался. Хотя с другой стороны - это вот именно такие люди, которые идут на несоразмерные жертвы и создают несоразмерные по тяжести последствия и добиваются перемен в обществе на глобальном уровне. А разумные люди, которые в какой-то момент отступают, поддерживают существующий порядок.Мне как юристу очень понравилась бюрократическая часть этой истории: в какие инстанции Кольхаас подавал жалобы, и как разные чиновники, аристократы, а в итоге - дворы решали, у кого из них есть юрисдикция, и надо ли судить мятежника по месту рождения или по месту совершения преступления, и писали всякие хитрые противоречащие друг другу рескрипты, и в итоге все еще больше запутали, а император, который решил этот гордеев узел разрубить, тоже не разрубил, а скорее перевязал. Как хотите, но в этом много комизма именно макдоновского толка, черный юмор у виселицы, только более тонкий, потому что бюрократия, как известно, самое страшное из оружий современного мира.
"Маркиза д'О" по сравнению с первой новеллой как-то разочаровала. Учитывая, что как только объясняется, в чем суть интриги, и так сразу становится понятно, что убийца, то есть отец - садовник, и слегка раздражает, что читателю дурят голову этой скучной семейной драмой столько времени. Будто остальные члены семьи не могли ничего заподозрить так долго, хотя применение бритвы Оккама тут бы всем помогло и сильно сократило текст.
"Землетрясение в Чили" впечатляет. Оно реально жутковатое, при этом жутковатое в том смысле, что читатель вместе с героями перепрыгивает от отчаяния к надежде - и дальше, увы, опять к отчаянию. И все это очень круто сделано, но крайней мере, в это вполне верится психологический, пусть декорации и изрядно театральные.
"Обручение на Сан-Доминго" всем интересно, кроме мелодрамы в конце, ну до такой степени дешевой слезливости уж не надо было совсем доходить, если хочешь, чтобы к тебе относились серьезно.
"Локарнская нищенка" была хороша до изобретения "Кентервильского привидения". Увы, я как испорченный современностью человек, думаю, что будь у меня замок и комната с привидением в нем, сдавала бы ее туристам посуточно за бешеные деньги, и на этом мои размышления о предмете заканчиваются.



 Стихи. Я знала раньше про Ходасевича-критика, но как-то так вышло, что совершенно не знала его стихов - хотя вообще поэзию Серебряного века и русской эмиграции очень люблю.
Стихи. Я знала раньше про Ходасевича-критика, но как-то так вышло, что совершенно не знала его стихов - хотя вообще поэзию Серебряного века и русской эмиграции очень люблю. 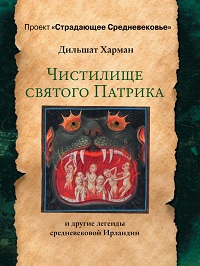
 Это роман, не похожий ни на что.
Это роман, не похожий ни на что. Обычно я люблю прозу поэтов, и у многих, уж простите, она получается лучше стихов, но Мандельштам, видимо - не тот случай. Он слишком поэт, а в объеме прозы окончательно запутывает себя и читателя. То есть автор-то, может, и ориентируется, куда там скачет его резвая вдохновенная мысль, но я откровенно не поспеваю. И все это еще помножить на широту кругозора, не стесненную обрывками образованности, и на широту метафор. Более ли менее ясны те статьи, в которых либо говорится об известных современниках (это все мы и так знаем, просто новый взгляд на известные фигуры), либо о биографии самого автора (детство и Тенишевское училище, кажется, я недавно читала об этом в одной или двух книгах). А вот более отвлеченные статьи проходят мимо моего сознания, никакой мыслью не цепляясь, много в них странного и смутного.
Обычно я люблю прозу поэтов, и у многих, уж простите, она получается лучше стихов, но Мандельштам, видимо - не тот случай. Он слишком поэт, а в объеме прозы окончательно запутывает себя и читателя. То есть автор-то, может, и ориентируется, куда там скачет его резвая вдохновенная мысль, но я откровенно не поспеваю. И все это еще помножить на широту кругозора, не стесненную обрывками образованности, и на широту метафор. Более ли менее ясны те статьи, в которых либо говорится об известных современниках (это все мы и так знаем, просто новый взгляд на известные фигуры), либо о биографии самого автора (детство и Тенишевское училище, кажется, я недавно читала об этом в одной или двух книгах). А вот более отвлеченные статьи проходят мимо моего сознания, никакой мыслью не цепляясь, много в них странного и смутного. Еще одна пишущая барышня эпохи Хэйан, знаменитая не только своими стихами, но и любовными похождениями (которые в Дневнике достаточно подробно описаны).
Еще одна пишущая барышня эпохи Хэйан, знаменитая не только своими стихами, но и любовными похождениями (которые в Дневнике достаточно подробно описаны).  Книга неизвестного для меня автора, случайно приобретенная на какой-то ярмарке по непонятной причине. Оказалось (а) неожиданно, (б) неожиданно хорошо.
Книга неизвестного для меня автора, случайно приобретенная на какой-то ярмарке по непонятной причине. Оказалось (а) неожиданно, (б) неожиданно хорошо. 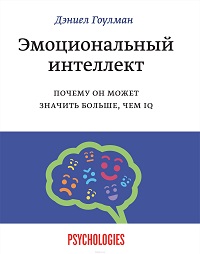 Очередная книжка из серии "рекомендуют на бизнес-тренингах". Как и все им подобные - набор совершенно тривиальных истин в очень подробном изложении с многократным повторением.
Очередная книжка из серии "рекомендуют на бизнес-тренингах". Как и все им подобные - набор совершенно тривиальных истин в очень подробном изложении с многократным повторением. Это сборник сайдстори к миру Земноморья; входящих в него повестей нет единого сюжета, все они происходят в разное время и с разными героями. Историю Геда, главного героя цикла, затрагивает лишь одна из них, и то по касательной - "The Bones of the Earth", в которой говорится о его учителе Огионе, когда тот еще сам был учеником и носил имя Silence.
Это сборник сайдстори к миру Земноморья; входящих в него повестей нет единого сюжета, все они происходят в разное время и с разными героями. Историю Геда, главного героя цикла, затрагивает лишь одна из них, и то по касательной - "The Bones of the Earth", в которой говорится о его учителе Огионе, когда тот еще сам был учеником и носил имя Silence.  Когда я искала какие-то приличные книги по современной японистике, на всех ресурсах в один голос советовали именно Мещерякова. Купила - и не прогадала, буду дальше читать это автора. И дело даже не в том, что японистика как таковая мне так уж интересно - но это тот случай, когда подкупает в первую очередь сам авторский подход к материалу, сочетание глубины проработки с логикой построения и манерой изложения. Пожалуй, раньше я видела такой класс только у Аверинцева: когда серьезную научную работу по не слишком близкой тебе теме читаешь с большим интересом и воодушевлением, чем фантастический роман, настолько она стройна и хороша.
Когда я искала какие-то приличные книги по современной японистике, на всех ресурсах в один голос советовали именно Мещерякова. Купила - и не прогадала, буду дальше читать это автора. И дело даже не в том, что японистика как таковая мне так уж интересно - но это тот случай, когда подкупает в первую очередь сам авторский подход к материалу, сочетание глубины проработки с логикой построения и манерой изложения. Пожалуй, раньше я видела такой класс только у Аверинцева: когда серьезную научную работу по не слишком близкой тебе теме читаешь с большим интересом и воодушевлением, чем фантастический роман, настолько она стройна и хороша. Муркок странный автор. Это третий его роман, который я прочитала. Все три - очень разные. Но при этом на мой вкус все три одинаково ужасны в плане буквально всего: сюжета, персонажей, психологии (точнее, ее полного отсутствия), стилистики и пр. На это нужен большой талант: как правило, авторы, которые пишут плохо, пишут одинаково плохо, а Муркок еще - плохо и заковыристо. Или мне так "везло" с подбором текстов, уж не знаю.
Муркок странный автор. Это третий его роман, который я прочитала. Все три - очень разные. Но при этом на мой вкус все три одинаково ужасны в плане буквально всего: сюжета, персонажей, психологии (точнее, ее полного отсутствия), стилистики и пр. На это нужен большой талант: как правило, авторы, которые пишут плохо, пишут одинаково плохо, а Муркок еще - плохо и заковыристо. Или мне так "везло" с подбором текстов, уж не знаю. Это замечательное исследование британского востоковеда, как можно догадаться по названию, посвящено японскому миру эпохи Хэйан вообще и его преломлении в "Повести о Гэндзи" - в частности. Собственно, это эпоха исследуется сквозь призму романа Мурасаки Сикибу, а не наоборот, так что, пожалуй, не читавшим ни Мурасаки, ни Сэй-Сёнагон, будет скорее неинтересно (во всяком случае, много чего непонятно).
Это замечательное исследование британского востоковеда, как можно догадаться по названию, посвящено японскому миру эпохи Хэйан вообще и его преломлении в "Повести о Гэндзи" - в частности. Собственно, это эпоха исследуется сквозь призму романа Мурасаки Сикибу, а не наоборот, так что, пожалуй, не читавшим ни Мурасаки, ни Сэй-Сёнагон, будет скорее неинтересно (во всяком случае, много чего непонятно).