А дело вот в чем: некрасивая сестра, собственно Моргиана, мучается собой и своей жизнью, особенно на фоне красавицы сестрицы, и эти мучения, столь очевидные читателю, похлеще Достоевского. Их нельзя не заметить и их нельзя игнорировать. Что же на это делает младшая Джесси, которой полагалось вроде быть доброй? - Искусно подливает масла в огонь. И дело не в том, что она как-то сознательно вредит Моргиане, нет, все проще: ей на Моргиану и ее душевные драмы глубоко наплевать. Как и на вообще все, что не касается непосредственно ее. Джесси - такая образцовая красивая эгоистичная куколка получилась, и как бы автор меня не убеждал в ее замечательности, я в нее не поверю. Я встречала таких девушек в реальной жизни, с ними можно общаться нормально ровно до того момента, когда твои и ее интересы не вступят в противоречие даже по самому ничтожному моменту. Это любимые доченьки, не знающие слова нет, им просто в голову не приходит, что иногда чувства и интересы других людей нужно учитывать - не то чтобы они не понимали, что вокруг живые, им просто совершенно искренне наплевать.
Грин поворачивает сюжет очень печально: задуманное Моргианой испытание оказывается для Джесси в итоге всего лишь легкой неприятностью, зато сама Моргиана расплачивается за него сполна. Собственно, так и бывает: кто-то идет по жизни, кажется, шутя, а кто-то наступает на все колючки и ломает шею там, где первый проходит, даже не заметив.
Но сочувствуешь все же Моргиане. Я закончила роман с чувством большого раздражения по отношению к Джесси, потому что я просто уверена, что если б не ее конкретно поведение, эгоизм и безразличие, то и драма Моргианы не была бы такой острой и болезненной. Интересно, осознавал ли это автор?



 Набоковские лекции разношерстные и довольно личные: сразу видно, кто у него в любимцах, а кто - напротив. Хотя они тем и хороши: Набоков не скрывает инструментария, с которым подходит к каждому автору, и не пытается заявить свои оценки в качестве абсолютной истины. У него очень четко оформленные взгляды и вкусы и даже если бы, положим, мы ничего не знали о Гоголе или Достоевском, ориентируясь на заявленные вкусы и оценку автора можно было бы прикинуть на себя - понравится или нет (только с Толстым этот инструментарий дает какой-то совершенно загадочный промах). Симпатично по крайней мере то, что Набоков не повторяет школьных прописных истин и стандартизированных оценок (хотя не уверена, что в его время и в Америке они существовали как класс).
Набоковские лекции разношерстные и довольно личные: сразу видно, кто у него в любимцах, а кто - напротив. Хотя они тем и хороши: Набоков не скрывает инструментария, с которым подходит к каждому автору, и не пытается заявить свои оценки в качестве абсолютной истины. У него очень четко оформленные взгляды и вкусы и даже если бы, положим, мы ничего не знали о Гоголе или Достоевском, ориентируясь на заявленные вкусы и оценку автора можно было бы прикинуть на себя - понравится или нет (только с Толстым этот инструментарий дает какой-то совершенно загадочный промах). Симпатично по крайней мере то, что Набоков не повторяет школьных прописных истин и стандартизированных оценок (хотя не уверена, что в его время и в Америке они существовали как класс).  "Упадок и разрушение" - жестокий комический роман вполне в духе Во. Более жестокий, чем "Сенсация" и "Черная напасть", пожалуй, более сюрреалистический в плане внезапности несчастий и странности событий, которые случаются с героями. Но в целом - в том же духе, с тем же черным юмором и нестребимой точностью формулировок. "Упадок" - история некоего молодого человека, который совершенно не по собственной вине оказывается замешанным в легкий скандал, из-за чего вылетает из своего элитного коллежда, лишается дядюшкиной финансовой поддержки и вынужден устроиться на работу преподавателем в закрытую школу в Уэльсе. По степени упоротости того, что происходит в той школе, и комичности все это сильно напоминает фильм "Одноклассницы" с Рупертом Эвереттом в роли школьной директрисы. У героя "Упадка" и директор, и коллеги, да и ученики - редкий паноптикум, и странно, что все это еще не пошло прахом к его приезду (впрочем, к концу книги логика жизни торжествует). Правда, герой не успевает насладиться упадком странной школы - водоворот эксцентричности закружил и его, и сначала кажется, что вот он на конец и каким-то магическим образом этому тихому скромному человечку судьба дала хорошую раздачу... Но потом выясняется, что таки нет, все сложилось ровно так, как и должно было сложиться по логике вещей. А герою не стоило бы хлопать ушами, чтобы не сесть в такую лужу. Впрочем, он там оказывается не один, а совершенно неожиданно - с бывшими своими товарищами.
"Упадок и разрушение" - жестокий комический роман вполне в духе Во. Более жестокий, чем "Сенсация" и "Черная напасть", пожалуй, более сюрреалистический в плане внезапности несчастий и странности событий, которые случаются с героями. Но в целом - в том же духе, с тем же черным юмором и нестребимой точностью формулировок. "Упадок" - история некоего молодого человека, который совершенно не по собственной вине оказывается замешанным в легкий скандал, из-за чего вылетает из своего элитного коллежда, лишается дядюшкиной финансовой поддержки и вынужден устроиться на работу преподавателем в закрытую школу в Уэльсе. По степени упоротости того, что происходит в той школе, и комичности все это сильно напоминает фильм "Одноклассницы" с Рупертом Эвереттом в роли школьной директрисы. У героя "Упадка" и директор, и коллеги, да и ученики - редкий паноптикум, и странно, что все это еще не пошло прахом к его приезду (впрочем, к концу книги логика жизни торжествует). Правда, герой не успевает насладиться упадком странной школы - водоворот эксцентричности закружил и его, и сначала кажется, что вот он на конец и каким-то магическим образом этому тихому скромному человечку судьба дала хорошую раздачу... Но потом выясняется, что таки нет, все сложилось ровно так, как и должно было сложиться по логике вещей. А герою не стоило бы хлопать ушами, чтобы не сесть в такую лужу. Впрочем, он там оказывается не один, а совершенно неожиданно - с бывшими своими товарищами. Очередной динозавровый научпоп (у нас их много, мы с мужем динозавров любим) - пожалуй, самый "сбалансированный" из всего, что я читала. Автор в доступной манере, но в достаточным количеством научных деталей, чтобы порадовать знатока, излагает историю динозавров - с древнейших времен до чуть менее древнейших. Книга скопмонована по геологическим эпохам, и это удобно, потому что позволяет наконец аккуратно уложить в голове, как соотносятся на временной шкале те или иные динозавры. Более того, автор дает понятный и вполне исчерпывающий ответ на вопрос, почему динозавры сначала захватили мир, а потом вымерли, и даже более того - почему в ту или иную эпоху в той или иной части света преобладали те или другие динозавры. В общем - это такая краткая научная история динозавров от появления их первых предков через эпоху, когда царствовали крокодиловые предки, но потом динозавры все-таки вышли на первое место, и к закату, связанному с падением метеорита и глобальным вымиранием.
Очередной динозавровый научпоп (у нас их много, мы с мужем динозавров любим) - пожалуй, самый "сбалансированный" из всего, что я читала. Автор в доступной манере, но в достаточным количеством научных деталей, чтобы порадовать знатока, излагает историю динозавров - с древнейших времен до чуть менее древнейших. Книга скопмонована по геологическим эпохам, и это удобно, потому что позволяет наконец аккуратно уложить в голове, как соотносятся на временной шкале те или иные динозавры. Более того, автор дает понятный и вполне исчерпывающий ответ на вопрос, почему динозавры сначала захватили мир, а потом вымерли, и даже более того - почему в ту или иную эпоху в той или иной части света преобладали те или другие динозавры. В общем - это такая краткая научная история динозавров от появления их первых предков через эпоху, когда царствовали крокодиловые предки, но потом динозавры все-таки вышли на первое место, и к закату, связанному с падением метеорита и глобальным вымиранием. Позже, правда, мы узнаем, что это не совсем так, и динозаврам изрядно подыграли геологические процессы, связанные с распадом суперконтинента Пангеи, вулканической активностью и прочим трешем, который ознаменовал завершение Триаса и начало Юры. Динозавры лучше показали себя на разных континентах, разделенных морем, чем любой другой вид. Конец эпохи динозавров автор однозначно связывает с падением метеорита 66 млн лет назад, когда вообще чуть ли не вся жизнь на Земле повымерла. Выжили, как замечает автор, более мелкие животные, не столь специфицированные в еде, то есть млекопитающие, которые до этого незамеченные толклись у динозавров под ногами. А если б не метеорит, то кто знает, может, динозавры были бы еще с нами.
Позже, правда, мы узнаем, что это не совсем так, и динозаврам изрядно подыграли геологические процессы, связанные с распадом суперконтинента Пангеи, вулканической активностью и прочим трешем, который ознаменовал завершение Триаса и начало Юры. Динозавры лучше показали себя на разных континентах, разделенных морем, чем любой другой вид. Конец эпохи динозавров автор однозначно связывает с падением метеорита 66 млн лет назад, когда вообще чуть ли не вся жизнь на Земле повымерла. Выжили, как замечает автор, более мелкие животные, не столь специфицированные в еде, то есть млекопитающие, которые до этого незамеченные толклись у динозавров под ногами. А если б не метеорит, то кто знает, может, динозавры были бы еще с нами.  "Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках". Первые пару частей книги целиком посвящены вопросам церкви, религии и моральных обычаев. А точнее говоря - критике всего вышеперечисленного. Это забавно, читать такую критику сейчас, когда вопрос свободы совести в развитых обществах уже out of question. На большинство ницшевских нападок хочется сказать: ну да, это же очевидно, чего копья ломать. А все дело в той работе, которую проделали Ницше и его подобные, чтобы оно *стало* очевидно спустя 140 лет. И современные коучи теперь на все лады повторяют то, что во времена Ницше было открытием, а теперь стало затертой истиной, вроде "человек свободный безнравственен, потому что во всем хочет зависеть от себя, а не от традиции". Все это очень легко применяется ко многим аспектам социальной жизни, когда традиция еще сильно давит на нас, но и "осободительная" сила тоже уже сильна, вроде: как это ты не хочешь детей? все хотят? или "брак это союз мужчины и женщины". Понятно, что Ницше до таких мелочей не опускается, но его "в общем" отлично на них ложится.
"Утренняя заря. Мысли о моральных предрассудках". Первые пару частей книги целиком посвящены вопросам церкви, религии и моральных обычаев. А точнее говоря - критике всего вышеперечисленного. Это забавно, читать такую критику сейчас, когда вопрос свободы совести в развитых обществах уже out of question. На большинство ницшевских нападок хочется сказать: ну да, это же очевидно, чего копья ломать. А все дело в той работе, которую проделали Ницше и его подобные, чтобы оно *стало* очевидно спустя 140 лет. И современные коучи теперь на все лады повторяют то, что во времена Ницше было открытием, а теперь стало затертой истиной, вроде "человек свободный безнравственен, потому что во всем хочет зависеть от себя, а не от традиции". Все это очень легко применяется ко многим аспектам социальной жизни, когда традиция еще сильно давит на нас, но и "осободительная" сила тоже уже сильна, вроде: как это ты не хочешь детей? все хотят? или "брак это союз мужчины и женщины". Понятно, что Ницше до таких мелочей не опускается, но его "в общем" отлично на них ложится.  Удивительно наивное и прекрасное в своей наивности повествование много повидавшего, но так и оставшегося наивным европейца, влюбленного в Японию. Херн был человеком с незаурядной биографией. Родившись в Викторианской Англии, он успел в юности побродяжить, а потом переехать в Америку, где тоже устраивался кое-как, но наконец нашел свое призвание в журналистике. Впрочем, как только в Америке "задалось", Херн и оттуда сбежал и в итоге оказался в Японии. Там был расцвет эпохи Мэйдзи, иностранцев принимали не то что как родных, а как высших существ, особенно из Европы и США. Впрочем, Херн представляет все это с совершенно другой стороны: будучи по сути пришельцем, он стал в своем повествовании о Японии "большим монархистом, чем сам король", и то и дело сетует на тлетворное западное влияние и разрушение прекрасных японских обычаев, духа и пр.
Удивительно наивное и прекрасное в своей наивности повествование много повидавшего, но так и оставшегося наивным европейца, влюбленного в Японию. Херн был человеком с незаурядной биографией. Родившись в Викторианской Англии, он успел в юности побродяжить, а потом переехать в Америку, где тоже устраивался кое-как, но наконец нашел свое призвание в журналистике. Впрочем, как только в Америке "задалось", Херн и оттуда сбежал и в итоге оказался в Японии. Там был расцвет эпохи Мэйдзи, иностранцев принимали не то что как родных, а как высших существ, особенно из Европы и США. Впрочем, Херн представляет все это с совершенно другой стороны: будучи по сути пришельцем, он стал в своем повествовании о Японии "большим монархистом, чем сам король", и то и дело сетует на тлетворное западное влияние и разрушение прекрасных японских обычаев, духа и пр.

 Это подборка стихотворений из разных сборников, охватывающих практически весь период творчества поэта, сделанная самим переводчиком Ипполитом Харламовым. Вряд ли какие из них и переводились раньше (как я понимаю, Элитиса на русский вообще переводили очень мало, и Харламов по большому счету первый взялся за это всерьез и масштабно). За счет продолжительности периода, который охватывает сборник (а Элитис прожил 85 лет, почти весь 20 век) стихи в нем весьма разнообразны и, можно сказать, на любой вкус. Есть более странные и вычурные, есть более простые и лирические. Удивительным образом мне больше по вкусу оказались первые, юношеские, а не те, где Элитис - уже матерый и слишком сложный для меня автор. Кажется, чем он дальше, тем сложнее становится, все зацепившие меня вещи - из первой половины книги.
Это подборка стихотворений из разных сборников, охватывающих практически весь период творчества поэта, сделанная самим переводчиком Ипполитом Харламовым. Вряд ли какие из них и переводились раньше (как я понимаю, Элитиса на русский вообще переводили очень мало, и Харламов по большому счету первый взялся за это всерьез и масштабно). За счет продолжительности периода, который охватывает сборник (а Элитис прожил 85 лет, почти весь 20 век) стихи в нем весьма разнообразны и, можно сказать, на любой вкус. Есть более странные и вычурные, есть более простые и лирические. Удивительным образом мне больше по вкусу оказались первые, юношеские, а не те, где Элитис - уже матерый и слишком сложный для меня автор. Кажется, чем он дальше, тем сложнее становится, все зацепившие меня вещи - из первой половины книги. Странно, конечно, начать знакомство со всемирно известным автором не с главных его произведений, а со сборника ювенилий и юморесок, но так уж вышло, что мне хотелось разнообразия, а из Остен в домашнем хозяйстве нашлось только это. Так что впечатление от Остен получилось странное. Весь этот сборник - по сути сплошная пародия на то, что писала сама Остен, а также сестры Бронте и иже с ними, в общем, все эти женские романы 18-19 века про трепетных девиц и большую любовь.
Странно, конечно, начать знакомство со всемирно известным автором не с главных его произведений, а со сборника ювенилий и юморесок, но так уж вышло, что мне хотелось разнообразия, а из Остен в домашнем хозяйстве нашлось только это. Так что впечатление от Остен получилось странное. Весь этот сборник - по сути сплошная пародия на то, что писала сама Остен, а также сестры Бронте и иже с ними, в общем, все эти женские романы 18-19 века про трепетных девиц и большую любовь. Внезапный трюк этой пьесы в этом, что персонажи в конце оказываются именно теми, кем они заявлены изначально в списке персонажей и представляются читателю при первом появлении. Занудная девочка-подросток - занудной девочкой-подростком. Странноватый чужак - странноватым чужаком. Палач и его подручный - пачалом и его подручным. Можете считать, что это спойлер.
Внезапный трюк этой пьесы в этом, что персонажи в конце оказываются именно теми, кем они заявлены изначально в списке персонажей и представляются читателю при первом появлении. Занудная девочка-подросток - занудной девочкой-подростком. Странноватый чужак - странноватым чужаком. Палач и его подручный - пачалом и его подручным. Можете считать, что это спойлер. Еще одна классическая повесть эпохи раннего Хэйан (IX век), но особая в свое роде. Исэ моногатари - не единое повествование, а подборка из 125 не связанных на первый взгляд между собой маленьких главок, в каждой из которых обязательно присутствует стихотворение танка, а то и не одно. Некоторые исследователи даже склонны считать его просто поэтическим сборником, а не романом. Впрочем, русский переводчик Конрад доказывает, что между главками есть сюжетное единство, и явственно прослеживается судьба одного лирического героя, а описанные любовные перипетии являются подробностями именно его личной жизни.
Еще одна классическая повесть эпохи раннего Хэйан (IX век), но особая в свое роде. Исэ моногатари - не единое повествование, а подборка из 125 не связанных на первый взгляд между собой маленьких главок, в каждой из которых обязательно присутствует стихотворение танка, а то и не одно. Некоторые исследователи даже склонны считать его просто поэтическим сборником, а не романом. Впрочем, русский переводчик Конрад доказывает, что между главками есть сюжетное единство, и явственно прослеживается судьба одного лирического героя, а описанные любовные перипетии являются подробностями именно его личной жизни. 


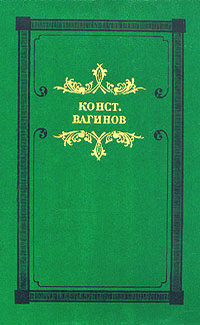 Начав читать, я думала, ну ок, еще безумный текст в духе Хармса, где все бьют друг друга роялями, но как же выдержать этот стиль, когда это не короткие зарисовочки, а целый роман? А под конец оказалось, что все не так, и несмотря на все причуды стиля, это вовсе не легкомысленное безобразие, а очень грустный и понятный текст о том, как проходит юность.
Начав читать, я думала, ну ок, еще безумный текст в духе Хармса, где все бьют друг друга роялями, но как же выдержать этот стиль, когда это не короткие зарисовочки, а целый роман? А под конец оказалось, что все не так, и несмотря на все причуды стиля, это вовсе не легкомысленное безобразие, а очень грустный и понятный текст о том, как проходит юность. Четвертый том собрания сочинений - мемуаристика и письма. На первый взгляд, ужасающе занудная часть в любом собрании сочинений, представляющая интерес только для исследователей. По сути - едва ли не лучшее, потому что Ходасевич-мемуарист еще веселее, чем Ходасевич-критик. В критике его все-таки сдерживали некоторые соображения приличий, формат, необходимость напечатать отзыв о живом авторе и пр. Мемуаристику же он писал для вечности, и "Некрополь" - воспоминания об уже умерших знаменитых современниках, без купюр, а сборник биографических историй "О себе" - тем более документ, для непосредственной печати не предназначавшийся и потому самый смешной и едкий из всего.
Четвертый том собрания сочинений - мемуаристика и письма. На первый взгляд, ужасающе занудная часть в любом собрании сочинений, представляющая интерес только для исследователей. По сути - едва ли не лучшее, потому что Ходасевич-мемуарист еще веселее, чем Ходасевич-критик. В критике его все-таки сдерживали некоторые соображения приличий, формат, необходимость напечатать отзыв о живом авторе и пр. Мемуаристику же он писал для вечности, и "Некрополь" - воспоминания об уже умерших знаменитых современниках, без купюр, а сборник биографических историй "О себе" - тем более документ, для непосредственной печати не предназначавшийся и потому самый смешной и едкий из всего.