Шпенглер & Инститорис
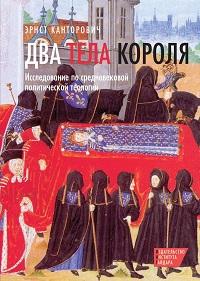
Это классический труд Канторовича, гораздо более научный, чем "Фридрих II", посвященный вполне узкой, но все же весьма интересной теме: тому, как в Средневековой Европе родилась и развивалась идея, что у короля (или королевы) два тела с двумя разными, простите мою юристику, правовыми статусами. Мне это было интересно прежде всего как юристу, поскольку Канторович опирается в своих изысканиях во многом на документы чисто юридического характера, в частности, английские судебные решения. И именно в них, насколько я могу судить, зародилась силами юристов эта странная идея: что есть король - физическое лицо, а есть король - политическое лицо. И если физическое лицо, ясно дело, может помереть, выжить из ума (то есть стать недееспособным) или даже вовсе перестать быть королем, то король - политическое лицо - совсем другое, он непреложен и вечен, как само королевство. При этом "функционал" политического тела короля переходит с одного физического на другое по мере того, как реализуется наследование.
Это выглядит довольно общО, но Канторович приводит довольно много забавных примеров, в частности, по английским спорам относительно имущества, которое оказывается в разном статуса в зависимости от того, стал ли владеющий им претендент в итоге королем или нет - причем эта перемена статуса действует еще и ретроспективно. Тот есть сделки, совершенные будущим королем в то время, когда он им еще не был, нельзя оспорить, потому что ну теперь-то он король, и все действия его неоспоримы. Тут я бы, конечно, сказала, что английские юристы жулят в пользу власть предержащих, конечно, но такова устоявшаяся судебная практика, как мы говорим.
На континенте концепция "двух тел" короля уходит от чисто юридической плоскости еще и в политическую и даже отчасти религиозную. Там идет активное соперничество между императором, королями и папой, причем у папы изначально эта "двойственность", понятно, есть, он не только человек, но и наместник Бога на земле. До догмата о непогрешимости папы еще очень далеко, но его особый статус безусловно ставит его выше светских правителей, которые просто "физические лица". И светским правителям концепт второго, "политического" тела короля оказывается в этой связи очень на руку: им есть что противопоставить религиозной власти в борьбе за авторитет.
В этом направлении идея "политического" тела сливается в той из концепцией государства, что все учили в школе на обществоведении, по которой народ - это члены, а правитель - голова, государство же есть единое тело; с той только поправкой, что народ - это члены тела короля in persona, как бы странно это ни звучало. Отсюда, кстати, и концепт, что самоубийство есть преступление против короны.
Канторович очень тщательный исследователь, он приводит огромное количество исторического материала в обоснование каждого из своих доводов и рассматриваемых аспектов. С одной стороны, такой профессионализм вызывает уважение, с другой - читать его гораздо сложнее, чем более общие исследования в той же области, скажем, Хейзингу или Ортегу-и-Гассета. Все же у меня осталось несколько странное впечатление по итогам: автор правда рассматривает только период Средневековья, и не делает никаких далеко идущих выводов или экстраполяций, выходящих за рамки тут же приведенного им материала. Это научная добросовестность, полностью лишенная "жареного".
Но я не отличаюсь такой сдержанностью и все-таки приведу злободневную цитату:
"Все наставления, даваемые монархам, сводятся, в сущности, к следующим двум напоминаниям: "Memento quod es homo" ("Помни, что ты человек") и "Memento quod es Deus" ("Помни, что ты Бог") или же "vice Dei" ("вместо Бога")". Первый из этих двух принципов, пишет Френсис Бэкон в своем эссе "Об империи", обуздывает властолюбие, а второй - своеволие государей, которые в других отношениях предстают "схожими с небесными телами, вызывающими хорошие или дурные времен и принимающие всяческое поклонение, но никогда не пребывающими в покое".
Первое "напоминание" Бэкона не следует путать с известным призывом камальдолитов "Memento mori", который (особенно в соединении с его художественным символом - черепом) был обращен исключительно к религиозным чувствам людей позднего Средневековья. Фраза "Memento quod es homo" не возникла в монашеской среде, а восходит к классической античности, а Френсис Бэкон не мог не знать, при каких обстоятельствах она звучала в Риме. В день своего триумфа победоносный римской император ехал от Марсова поля к Капитолию на колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, словно некий земной бог, - облаченный в расшитую пурпурную тогу Юпитера Капитолийского, держа в руке украшенный орлом скипетр этого бога, и с лицом, выкрашенными киноварью в красный цвет, - и тогда-то раб, ехавший вместе с ним на колеснице и державший над его головой золотой венок, шептал ему: "Оглянись. Помни, что ты человек".


