Не могу даже объяснить, чем конкретно, ведь все закончилось вроде бы хорошо. И Qing-jao получила именно то, чего сама хотела, других вариантов для нее быть и не могло. Но это страшно, страшно, страшно.
Наверное, потому, что наглядно иллюстрирует, какую страшную власть имеют родители над умами детей. Ошибка в воспитании может стать частью чьей-то личности, и эту ошибку уже не исправить.
Вообще вся линия с планетой Путь (Path) производит сильнейшее впечатление - и при первом прочтении, и сейчас. В обсессивно-компульсивном синдроме есть что-то завораживающее, как завораживают мазохизм и саморазрушение. Хочется окунуться в это - хотя бы легонько, но вдруг действительно станет легче? И еще более завораживающее, но уже в классическом у Карда приеме brainfucking - история Qing-jao, которая продолжала выполнять свои тяжелые и бессмысленные ритуалы, даже когда реальная физическая причина, которая вынуждала ее этим заниматься, отпала. Что лишний раз доказывает, что сила самообмана и самоубеждения - гораздо более реальная, чем любые другие. Мы убеждаем себя, что любим или ненавидим. Убеждаем себя, что с нами говорят боги. Вот что движет миром.
Линия планеты Путь - третья, и новая линия Саги, и самая "чистая" из всех. Две прежних линии - линия Эндера и его семьи и линия piggies and Heave Queen - тоже никуда не делись и продолжают развиваться. Впрочем, развиваются они куда больше "вширь", чем "вглубь" - происходит много событий, которые при более пристальном взгляде могли бы считаться судьбоносными, но учитывая их количество, отходят на задний план одно за другим. Пожалуй, за это я и люблю "Ксеноцид" меньше остальных книг - в нем слишком много всего намешано. Складывается впечатление, что Кард хотел сказать как можно больше, и обо всех. И, не изменяя ничуть своему лаконичному и сдержанному стилю, так и сделал. Другое дело, что в предыдущих книгах такой dispassionate стиль был очень к месту, и прекрасно дополнял столь же простой и ясный (plain and clear and simple) сюжет. От "Ксеноцида" же остается ощущение, что автор незаслуженно обходит героев вниманием, уделяя им слишком мало текстового пространства - притом, что со своими бедами и событиями они могли бы претендовать на большее.
Это даже странно, потому что изначально линия с семейством Рибейра задевала меня куда больше, чем все остальные. То, как она выписана в "Голосе", не могло не оставить свой след. Но по мере чтения "Ксеноцида" начинаешь уставать: все-таки их слишком много во всех смыслах. Пожалуй, единственное, что по-настоящему задело и восхитило до слез - смерть Квима. Точнее даже, его диалог с Warmaker'ом. Зная прекрасно, чем все закончится, я читала затаив дыхание и ждала, что Квим все-таки победит.
И все-таки - в самом конце - в этой линии проглядывает "бессмертная красота, которая вызывает восторг" (с)
 Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве.
Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве. Ender: "Do you hear his [mean God's] voice these days?"
Novinha: "I hear his song in my heart, the way the Psalmist did. The Lord is my shepherd. I shall not want".
Ender: "The twenty-third. While the only song I hear is the twenty-second".
Кто знает Псалтырь, тот поймет, но я все же процитирую.
23: "Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно... Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? - Господь сил, Он. - Царь славы".
22: "Господь - Пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться... Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной... Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни".
Это просто потрясающе, и даже от Карда я не ожидала, что он подберет настолько точно, настолько изящно! Совершенно не помню этого момента с прошлого раза (может, он как-то опущен в русском переводе?). Но это весь Эндер и вся Новина! Все светлые люди и темные, все спокойные душой и вечно тревожащиеся - в этих двух псалмах, идущих, как назло, один за другим. Уверенность в Боге и уверенность в том, что Бога нужно быть достойным. Вторые, сдается мне, никогда не будут счастливы. Но первые, слишком уверенные во всеблагом боге, никогда не совершат сколько, сколько совершат вторые, пытаясь "заслужить".




 Чес-слово, это самая занудная история из всех, что я читала у Фрая. Там нет практически никакого действия, а одна сплошная рефлексия.
Чес-слово, это самая занудная история из всех, что я читала у Фрая. Там нет практически никакого действия, а одна сплошная рефлексия. ну скажите, ведь пу-уся!))
ну скажите, ведь пу-уся!)) 
 До того, что они, возможно, страдали от невозможности самовыразиться, никому, понятно, нет дело))
До того, что они, возможно, страдали от невозможности самовыразиться, никому, понятно, нет дело)) 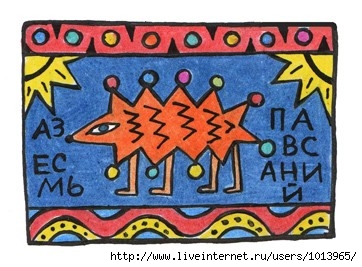
 , фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.
, фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.  Я ее вполне понимаю))
Я ее вполне понимаю)) Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему)
Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему) 
