Статьи сделаны именно так, как обычно пишут во всяких серьезных бизнес-изданиях: то в виде интервью, то в виде авторского текста с вкраплением мнений экспертов, то в виде законопроекта поправок к НК РФ. Форма для стеба совершенно идеальная. Стилистика - тоже, потому что стиль соответствующих изданий скопирован просто идеально и варьируется от вычурной стилистики законопроектов до бульварных газет (с заголовками типа "Происшествие в Москве. Свопы напали на человека"; "Деривативы растерзали пенсионера в Бутово"; "Опционы в метро: невиданные жертвы"
 вот вам смешно, а у меня второй диплом был про деривативы. я пенсионера очень хорошо понимаю).
вот вам смешно, а у меня второй диплом был про деривативы. я пенсионера очень хорошо понимаю).А еще там есть много прекрасного в плане имен и названий, например, Институт Стран Загибающейся Экономики, Департамент Финансового Оздоровления при Клинической больнице по крупнейшим налогоплательщикам № 13, ФАС Макар-Телятского округа, рейтинговое агентство "Бизнес&Упс" и профессор кафедры машинного доения НИИ гуманитарного животноводства Еремей Брюквин
 Ко всему прочему - иллюстрации Андрея Бильжо на темы налогов.
Ко всему прочему - иллюстрации Андрея Бильжо на темы налогов. Чтобы оценить юмор автора в полной мере, надо, наверное, более ли менее представлять себе эту область. Мне в некоторых моментах не хватало знаний именно в области налогов (не сколько теории, сколько практики, новостей, тенденций и тд), но и без того просто убийственно смешно))
Рекомендую двумя лапами, потому что ничего подобного, насколько я знаю, в природе не существует. Процитирую только одну из главок:
"Все, что считается, облагается
Предупреждение дачникам, и не только им.
Доход налогоплательщика, как правило, невелик. До одной трети населения страны проживает за чертой бедности. Эта безрадостная картина меняется, стоит только посмотреть на доходы граждан сквозь призму налогового законодательства.
Приведем пример.
Гражданин Н., проживающий в сельской местности, изготовил и употребил для мелких бытовых надобностей ведро самогона. Сделка была совершена между взаимозависимыми лицами, так как гражданин Н., выступая сразу обеими сторонами в сделке, мог повлиять на ее результат. Его доход для целей налогообложения составит:
- выручка от реализации ведра самогона, рассчитанная исходя из рыночных цен;
- сумма дохода в натуральной форме, полученного при безвозмездном приобретении самогона;
- сумма экономии денежных средств в размере банковского процента по рыночной ставке по краткосрочным рублевым кредитам. Экономия образует материальную выгоду лица, избравшего при отсутствии оборотных средств безденежную форму взаиморасчетов и сем самым избежавшего привлечения кредитных ресурсов на возвратной и платной основе. Проценты начисляются за период распития ведра самогона.
Это еще не все. К ситуации стоит отнестись внимательнее, увидев скрытые мотивы поведения гражданина Н.
Совершенная им сделка не преследовала никакой значимой хозяйственной цели. Не было у лица и намерения получить доход, о чем гражданин сам заявил на допросе. Расчеты проведены внутри одного лица без реального движения денежных средств. Следовательно, перед нами сделка, совершенная исключительно в целях избежания налоговых выплат в бюджет. Очевидно, что в обычных условиях хозяйствовавания налогоплательщик, действующий разумно, должен самогон продать, а выручку пропить. Гражданин, не выходя на рынок, избегая публичного акта купли-продажи, рассчитывал существенно сократить налоговую нагрузку:
- не платить налог с дохода от реализации произведенного товара;
- не платить акцизов и НДС при реализации и покупке товара;
- не оплачивать административных издержек (сборов, пошлин), связанных с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя, получением необходимых лицензий, разрешений, сертификатов и согласований.
Сделка гражданина Н., совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка, ничтожна.
Как гражданина Н. ни поверни, он кругом виноват. При наличии умысла у обеих сторон сделки в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке. Поскольку стороны совпадают в одном лице, гражданин Н. несет полное бремя негативных последствий своих действий, подвергаясь взысканию денежных средств на сумму цены реализованного самогона и приобретенного самогона.
Мы рассмотрели наиболее одиозный пример. Но в бытовых отношениях можно увидеть множество ситуаций, обещающих доход казне. А сколько еще товаров, работ, услуг, в обычных условиях предоставляемых за плату, в семейном хозяйстве потребляются на халяву!"




 И много еще всякого прекрасного. Не просто рекомендую двумя лапами, а считаю обязательной к прочтению всем, кто любит учить и учиться.
И много еще всякого прекрасного. Не просто рекомендую двумя лапами, а считаю обязательной к прочтению всем, кто любит учить и учиться. То же самое - аналог противоестественной плотости воздуха - противоестественная бесплотность остальных людей в конце. Выход за физические пределы этого мира.
То же самое - аналог противоестественной плотости воздуха - противоестественная бесплотность остальных людей в конце. Выход за физические пределы этого мира. Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве.
Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве.  ну скажите, ведь пу-уся!))
ну скажите, ведь пу-уся!)) 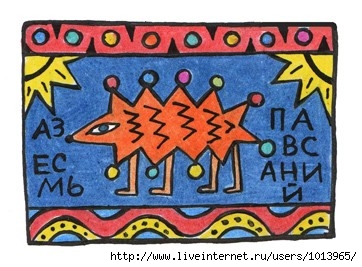
 , фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.
, фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.  Я ее вполне понимаю))
Я ее вполне понимаю)) Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему)
Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему) 