Про сам роман можно сказать то же, что и про предыдущий: изумительная гармония сюжета и формы, слияние этих двух в одно целое, направленное только на то, чтобы передать основную мысль автора, или даже не мысль, ощущение. Все говорит об этом: дорога никуда.
Географически - это дорога Тиррея из Покета и обратно в Покет. Он куда-нибудь пришел в итоге? Никуда, все эти годы, что мы знаем его - одно сплошное возвращение, простите за каламбур, почти вечное.
Точно так же - от и до - вся жизнь, закольцованный сюжет. В финале мы встречаем тех же, кого видели в начале, только они чуть изменились, стали другими? Впрочем, не более другими, чем можно естественно предположить исходя из прошедшего времени. Разве милые девочки Футроза стали именно хуже? Я бы сказала, что они просто наконец выросли, и, как и у многих взрослых после столкновения с "реальным миром", стали чуть жестче - иначе и быть не может. Разве и сам Тиррей, начавший свою "карьеру" несчастным брошенным ребенком, не закончил ее вполне логично для такой судьбы, умерев в тюрьме от воспаления? Как бы сильно ни любил и ни стремился он, как бы ни хотели ему помочь другие - никто ничего не изменил в итоге.
Грин честно предупреждает нас о том, что будет, историей Сайласа Гента, который отправился короткой нехоженой дорогой и погиб на ней. История проще некуда, классический вид страшилки, но такие притчи и не должны быть сложными. Что это была за дорога? Мы прекрасно знаем: дорога никуда. Тиррей шел по этой дороге все время: шел не в какое-то место, а то к определенным людям, то спасаясь, и наконец пришел. Quoth the Raven: nowhere.
Иногда жаль, что я не занимаюсь всерьез литературным анализом. По-моему, Грин для этого, как и Набоков - просто клад. Читаешь его, и кажется, что это просто несколько бессвязный полуфантастический текст, который непонятно почему оказывает такое воздействие на умы и души, и тревожит, и оставляет ощущение, что ты что-то опустил. Но стоит только начать разбирать, и становится видна почти идеальная задумка, идея, которая воплощена и в содержании, и в форме, причем и там, и там - не прямо, а иносказательно, как бы гадательно, как сквозь мутное зеркало. Смотри, что увидишь и какие выводы сумеешь сделать. Название - главная подсказка.
Что такое таинственное "никуда", куда пришли герои? Не смерть
 Нечто совсем другое. Иначе в дороге не было бы смысла, согласитесь, смерть-то можно прекрасно встретить, не выходя за порог своего дома. Иначе все мучительные усилия, которые препринимались последние две трети книги для спасения Давенанта, были бы напрасными - но разве остается такое ощущение, что они напрасны? Нет, наоборот, его друзья добились своего, хотя, может, и не в состоянии сформулировать, чего именно. Например, сумели вернуть ему утраченную жизнь, или даже дать нечто большее. И, может быть, не только ему.
Нечто совсем другое. Иначе в дороге не было бы смысла, согласитесь, смерть-то можно прекрасно встретить, не выходя за порог своего дома. Иначе все мучительные усилия, которые препринимались последние две трети книги для спасения Давенанта, были бы напрасными - но разве остается такое ощущение, что они напрасны? Нет, наоборот, его друзья добились своего, хотя, может, и не в состоянии сформулировать, чего именно. Например, сумели вернуть ему утраченную жизнь, или даже дать нечто большее. И, может быть, не только ему.



 )
) И много еще всякого прекрасного. Не просто рекомендую двумя лапами, а считаю обязательной к прочтению всем, кто любит учить и учиться.
И много еще всякого прекрасного. Не просто рекомендую двумя лапами, а считаю обязательной к прочтению всем, кто любит учить и учиться. Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве.
Я серьезно, на самом деле. Самый последний диалог Эндера с Новиной, когда она уже ушла от него в монастырь и уговаривает его присоединиться к ней в монашестве.  ну скажите, ведь пу-уся!))
ну скажите, ведь пу-уся!)) 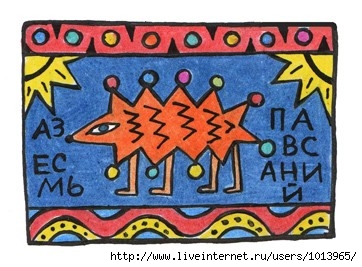
 , фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.
, фок Варзов, Райнштайнер и прочая массовка.  Я ее вполне понимаю))
Я ее вполне понимаю)) Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему)
Видимо, самого Алву такой поворот событий тоже смутил, потому что он какой-то не алвистый, а тих, грустен и начал задумываться о жизни и тд. Что печально, потому что с Алвой - марти-стью было куда веселее, по-моему)