 Странно, конечно, начать знакомство со всемирно известным автором не с главных его произведений, а со сборника ювенилий и юморесок, но так уж вышло, что мне хотелось разнообразия, а из Остен в домашнем хозяйстве нашлось только это. Так что впечатление от Остен получилось странное. Весь этот сборник - по сути сплошная пародия на то, что писала сама Остен, а также сестры Бронте и иже с ними, в общем, все эти женские романы 18-19 века про трепетных девиц и большую любовь.
Странно, конечно, начать знакомство со всемирно известным автором не с главных его произведений, а со сборника ювенилий и юморесок, но так уж вышло, что мне хотелось разнообразия, а из Остен в домашнем хозяйстве нашлось только это. Так что впечатление от Остен получилось странное. Весь этот сборник - по сути сплошная пародия на то, что писала сама Остен, а также сестры Бронте и иже с ними, в общем, все эти женские романы 18-19 века про трепетных девиц и большую любовь.Надо сказать, что потешается над штампами жанра Остен так умело, что все ее зарисовки вполне можно было бы использовать как каркас для полноценных романов - если только развить и пересказать менее смешным языком. Однако по мере чтения меня не покидало чувство, что некоторые, более длинные вещи, такие как собственно "Катарина", могли быть написаны и всерьез. Но в целом сборник оставляет впечатление, что читаешь такого викторианского Хармса - все поминутно влюбляются до гроба, падают в обморок, описывают внешность и платье и кичатся своей тонкой душевной организацией. Это забавляет и раздражает одновременно. С другой стороны, понимаешь, что объект пародии в его первозданном виде раздражал бы куда больше.
В общем, милый легкий сборничек, все эти томные девицы и кавалеры, чувство юмора и самоирония у Остен хороши, хотя читать пародии в таком объеме несколько устаешь.



 Внезапный трюк этой пьесы в этом, что персонажи в конце оказываются именно теми, кем они заявлены изначально в списке персонажей и представляются читателю при первом появлении. Занудная девочка-подросток - занудной девочкой-подростком. Странноватый чужак - странноватым чужаком. Палач и его подручный - пачалом и его подручным. Можете считать, что это спойлер.
Внезапный трюк этой пьесы в этом, что персонажи в конце оказываются именно теми, кем они заявлены изначально в списке персонажей и представляются читателю при первом появлении. Занудная девочка-подросток - занудной девочкой-подростком. Странноватый чужак - странноватым чужаком. Палач и его подручный - пачалом и его подручным. Можете считать, что это спойлер. Еще одна классическая повесть эпохи раннего Хэйан (IX век), но особая в свое роде. Исэ моногатари - не единое повествование, а подборка из 125 не связанных на первый взгляд между собой маленьких главок, в каждой из которых обязательно присутствует стихотворение танка, а то и не одно. Некоторые исследователи даже склонны считать его просто поэтическим сборником, а не романом. Впрочем, русский переводчик Конрад доказывает, что между главками есть сюжетное единство, и явственно прослеживается судьба одного лирического героя, а описанные любовные перипетии являются подробностями именно его личной жизни.
Еще одна классическая повесть эпохи раннего Хэйан (IX век), но особая в свое роде. Исэ моногатари - не единое повествование, а подборка из 125 не связанных на первый взгляд между собой маленьких главок, в каждой из которых обязательно присутствует стихотворение танка, а то и не одно. Некоторые исследователи даже склонны считать его просто поэтическим сборником, а не романом. Впрочем, русский переводчик Конрад доказывает, что между главками есть сюжетное единство, и явственно прослеживается судьба одного лирического героя, а описанные любовные перипетии являются подробностями именно его личной жизни. 


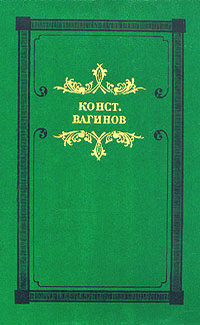 Начав читать, я думала, ну ок, еще безумный текст в духе Хармса, где все бьют друг друга роялями, но как же выдержать этот стиль, когда это не короткие зарисовочки, а целый роман? А под конец оказалось, что все не так, и несмотря на все причуды стиля, это вовсе не легкомысленное безобразие, а очень грустный и понятный текст о том, как проходит юность.
Начав читать, я думала, ну ок, еще безумный текст в духе Хармса, где все бьют друг друга роялями, но как же выдержать этот стиль, когда это не короткие зарисовочки, а целый роман? А под конец оказалось, что все не так, и несмотря на все причуды стиля, это вовсе не легкомысленное безобразие, а очень грустный и понятный текст о том, как проходит юность. Четвертый том собрания сочинений - мемуаристика и письма. На первый взгляд, ужасающе занудная часть в любом собрании сочинений, представляющая интерес только для исследователей. По сути - едва ли не лучшее, потому что Ходасевич-мемуарист еще веселее, чем Ходасевич-критик. В критике его все-таки сдерживали некоторые соображения приличий, формат, необходимость напечатать отзыв о живом авторе и пр. Мемуаристику же он писал для вечности, и "Некрополь" - воспоминания об уже умерших знаменитых современниках, без купюр, а сборник биографических историй "О себе" - тем более документ, для непосредственной печати не предназначавшийся и потому самый смешной и едкий из всего.
Четвертый том собрания сочинений - мемуаристика и письма. На первый взгляд, ужасающе занудная часть в любом собрании сочинений, представляющая интерес только для исследователей. По сути - едва ли не лучшее, потому что Ходасевич-мемуарист еще веселее, чем Ходасевич-критик. В критике его все-таки сдерживали некоторые соображения приличий, формат, необходимость напечатать отзыв о живом авторе и пр. Мемуаристику же он писал для вечности, и "Некрополь" - воспоминания об уже умерших знаменитых современниках, без купюр, а сборник биографических историй "О себе" - тем более документ, для непосредственной печати не предназначавшийся и потому самый смешной и едкий из всего. Давно собиралась перечитать все рассказы ВВК кучей, а то от большинства у меня остались какие-то совсем обрывочные воспоминания более чем 20-летней давности. Я очень люблю Набокова, но тут даже сама удивилась, насколько хороши его рассказы и насколько они отличаются и от простеньких стихов, и от вычурных романов, в которых не всегда читатель может точно показать пальцем, что вот сейчас происходит. Придется даже признать, при всей любви к романам, что именно в малой форме Набоков с моей точки зрения безупречен и достигает гармонии стиля и сюжета (в романах все переваливается в стиль, конечно). Причем практически везде, и сюжет практически везде настолько необычен, строен и вообще хорош. И все это - с непривычным таки для Набокова человеческим измерением, психологизмом не показушным, без специального концентрирования на нем, но настолько отчетливым и важным для целого, что он перекрывает собой все стилистические упражнения. Это очень удивительно, но правда. Чего стоит мое любимое "Облако, озеро, башня" с ужасной, просто ужасной человеческой трагедией, которую не завуалировать никакими художественными приемами, никаким кажущимся фантастическим в своей жестокости поворотом сюжета. В этом весь Набоков как автор короткой прозы: слегка усыпив внимание читателя привычным плетением фраз и неторопливым развитием истории с многочисленными художественными, мало относящимися к делу подробностями, он подкладывает бомбу там, где ее, в общем, не ждешь. Как в "Весне в Фиальте", как в "Картофельном эльфе".
Давно собиралась перечитать все рассказы ВВК кучей, а то от большинства у меня остались какие-то совсем обрывочные воспоминания более чем 20-летней давности. Я очень люблю Набокова, но тут даже сама удивилась, насколько хороши его рассказы и насколько они отличаются и от простеньких стихов, и от вычурных романов, в которых не всегда читатель может точно показать пальцем, что вот сейчас происходит. Придется даже признать, при всей любви к романам, что именно в малой форме Набоков с моей точки зрения безупречен и достигает гармонии стиля и сюжета (в романах все переваливается в стиль, конечно). Причем практически везде, и сюжет практически везде настолько необычен, строен и вообще хорош. И все это - с непривычным таки для Набокова человеческим измерением, психологизмом не показушным, без специального концентрирования на нем, но настолько отчетливым и важным для целого, что он перекрывает собой все стилистические упражнения. Это очень удивительно, но правда. Чего стоит мое любимое "Облако, озеро, башня" с ужасной, просто ужасной человеческой трагедией, которую не завуалировать никакими художественными приемами, никаким кажущимся фантастическим в своей жестокости поворотом сюжета. В этом весь Набоков как автор короткой прозы: слегка усыпив внимание читателя привычным плетением фраз и неторопливым развитием истории с многочисленными художественными, мало относящимися к делу подробностями, он подкладывает бомбу там, где ее, в общем, не ждешь. Как в "Весне в Фиальте", как в "Картофельном эльфе".  Завершающая книга цикла "Земноморье", написанная более 30 лет позднее "Волшебника Земноморья". По моим ощущениям, Ле Гуин пыталась сделать ее такой же - но она все равно вышла другой, потому что и автор изменился, и мир изменился.
Завершающая книга цикла "Земноморье", написанная более 30 лет позднее "Волшебника Земноморья". По моим ощущениям, Ле Гуин пыталась сделать ее такой же - но она все равно вышла другой, потому что и автор изменился, и мир изменился.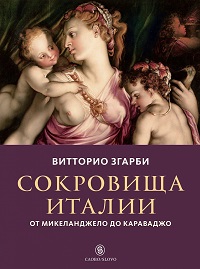 Мне очень нравится формат этих книг Згарби: полная картина века (в данном случае - Чинквеченто), очень много неизвестных для меня и, наверное, для всех художников, шикарные репродукции, коротенькие статьи. При этом статьи написаны совершенно неформально, это не "биографический словарь" и тут нет скучной копирки "родился - женился". О ком-то даются биографические данные, о ком-то - одни эмоции, а о ком-то - даже обсуждение конкретных тем или картин. При всем этом, как ни странно, такой подход реально открывает читателю то, что без изложения оставалось бы от него сокрыто. Во всяком случае, применительно ко мне это несколько раз за весь текст сработало, и я посмотрела совершенно по-новому на известных уже художников.
Мне очень нравится формат этих книг Згарби: полная картина века (в данном случае - Чинквеченто), очень много неизвестных для меня и, наверное, для всех художников, шикарные репродукции, коротенькие статьи. При этом статьи написаны совершенно неформально, это не "биографический словарь" и тут нет скучной копирки "родился - женился". О ком-то даются биографические данные, о ком-то - одни эмоции, а о ком-то - даже обсуждение конкретных тем или картин. При всем этом, как ни странно, такой подход реально открывает читателю то, что без изложения оставалось бы от него сокрыто. Во всяком случае, применительно ко мне это несколько раз за весь текст сработало, и я посмотрела совершенно по-новому на известных уже художников.



