вторник, 04 февраля 2025
Шпенглер & Инститорис
Заслуженно забытая советская фантастика. У авторов были все ингредиенты, чтобы сделать очень интересно: простой небольшой дом на окраине провинциального городка, который внезапно один-единственный оказался в зоне контакта, более того, на перекрестье миров и времени. Население этого дома - простые советские люди, хорошо знающие друг друга соседи. Изоляция, контакт, странный новый мир за дверью, искривление пространства-времени.
Иии... - ничего интересного не вышло. Все интересное я вам уже пересказала. Ждешь, когда же начнется действие или хотя бы психологизм. Но ни того, ни другого не происходит. Контакт этих людей ничему не научил, и они ничего стоящего в нем не сделали. Как были ограниченными (некоторые, как Берлага или как его там, просто до карикатурности), так и остались. А некоторые - как были функциями, просто фамилия без характера и истории, тоже так и остались. Казалось бы, новый открывшийся мир обещал много интересного - но дальше констатации некоторых его свойств в его исследовании дело у людей не пошло. Далее, наиболее отважные обитатели домика отправились на исследование открывшихся было временно-пространственных искажений, оказались в далеком будущем, но не проявили по этом поводу энтузиазма, а бодро драпанули обратно - и опять облом. Так авторы начинают несколько, казалось бы, многообещающих сюжетных линий, но не успев толком их развернуть, тут же сворачивают, будто испугавшись, что над ними придется поработать.
Или появившаяся в середине повести линия людей, которые остались снаружи и пытаются разобраться, что же случилось с домом, который внезапно оказался окружен силовым полем, искажающим пространство. Эта линия начинается полностью как комическая, профессионализму собравшихся снаружи ни на секунду не доверяешь и в их способсность чем-то помочь не веришь. Конечно, ничего толком из их действий и не выходит, зато под конец (независимо от их деятельности) во внешнем мире начинается какой-то масштабный апокалипсис, который в этом комизме слегка неуместен.
И наконец, то, к чему авторы свели всю историю - то ли Единый Разум, то ли Вселенский, я уже забыла, в общем, инопланетный живой организм, который ни о каком контакте не помышлял, а проводил в жизнь свои планы, пока не натолкнулся специально на обитателей нашего домика. И не нашел их разумными (что делает ему честь, я бы так не про всех из них сказала). И решил прервать контакт, чтобы им не вредить. Во всем этом столько пафоса, что аж противно - а самое главное, нет основного ингредиента фантастики, таинственности, другого. Скажите мне, пожалуйста, если далекая планета со всей совокупностью жизни на ней эволюционировала как единый разум, связанный организм, и при этом не встречалась никогда с другими пришельцами - откуда этот разум может знать, что существуют другие разумы и жизни, и притом, в отличие от нее, в виде отдельных индивидов? Это не укладывается ни в какую логику. Нет, гораздо логичнее было бы предположить, что отдельный человек - просто маленький грибок на грибнице, и пренебречь им, тем более, что вокруг еще много бродит.
И уж совсем роспись в авторском бессилии - все эти откровения чудом вложить в головы героев-людей, вот под конец истории они "внезапно осознали", ненадолго слившись в контакте с Единой Жизнью или как ее там. Было бы гораздо лучше, если бы все это осталось непонятым и неосознанным, но без пионерской морали.
Иии... - ничего интересного не вышло. Все интересное я вам уже пересказала. Ждешь, когда же начнется действие или хотя бы психологизм. Но ни того, ни другого не происходит. Контакт этих людей ничему не научил, и они ничего стоящего в нем не сделали. Как были ограниченными (некоторые, как Берлага или как его там, просто до карикатурности), так и остались. А некоторые - как были функциями, просто фамилия без характера и истории, тоже так и остались. Казалось бы, новый открывшийся мир обещал много интересного - но дальше констатации некоторых его свойств в его исследовании дело у людей не пошло. Далее, наиболее отважные обитатели домика отправились на исследование открывшихся было временно-пространственных искажений, оказались в далеком будущем, но не проявили по этом поводу энтузиазма, а бодро драпанули обратно - и опять облом. Так авторы начинают несколько, казалось бы, многообещающих сюжетных линий, но не успев толком их развернуть, тут же сворачивают, будто испугавшись, что над ними придется поработать.
Или появившаяся в середине повести линия людей, которые остались снаружи и пытаются разобраться, что же случилось с домом, который внезапно оказался окружен силовым полем, искажающим пространство. Эта линия начинается полностью как комическая, профессионализму собравшихся снаружи ни на секунду не доверяешь и в их способсность чем-то помочь не веришь. Конечно, ничего толком из их действий и не выходит, зато под конец (независимо от их деятельности) во внешнем мире начинается какой-то масштабный апокалипсис, который в этом комизме слегка неуместен.
И наконец, то, к чему авторы свели всю историю - то ли Единый Разум, то ли Вселенский, я уже забыла, в общем, инопланетный живой организм, который ни о каком контакте не помышлял, а проводил в жизнь свои планы, пока не натолкнулся специально на обитателей нашего домика. И не нашел их разумными (что делает ему честь, я бы так не про всех из них сказала). И решил прервать контакт, чтобы им не вредить. Во всем этом столько пафоса, что аж противно - а самое главное, нет основного ингредиента фантастики, таинственности, другого. Скажите мне, пожалуйста, если далекая планета со всей совокупностью жизни на ней эволюционировала как единый разум, связанный организм, и при этом не встречалась никогда с другими пришельцами - откуда этот разум может знать, что существуют другие разумы и жизни, и притом, в отличие от нее, в виде отдельных индивидов? Это не укладывается ни в какую логику. Нет, гораздо логичнее было бы предположить, что отдельный человек - просто маленький грибок на грибнице, и пренебречь им, тем более, что вокруг еще много бродит.
И уж совсем роспись в авторском бессилии - все эти откровения чудом вложить в головы героев-людей, вот под конец истории они "внезапно осознали", ненадолго слившись в контакте с Единой Жизнью или как ее там. Было бы гораздо лучше, если бы все это осталось непонятым и неосознанным, но без пионерской морали.
воскресенье, 02 февраля 2025
Шпенглер & Инститорис
Я, конечно, всегда знала про пьесу Шекспира и легенду, что злодей-горбун Ричард III умертвил тауэрских принцев, но дальше никогда не задумывалась и заинтересовалась персонажем только после какой-то лекции на Арзамасе из цикла про исторические заблуждения. Учитывая мои очень слабые знания в английской истории вообще и Войне роз в частности, книга Тэй оказалась по сути удачным входом в тему и этот период.
Удивительным образом, это детектив, хотя и необычный (я детективы не люблю и обычно не читаю). Современный следователь Скотланд-Ярда лежит в больнице, скучает и решает заняться каким-то историческим преступлением - и случайно выбирает именно тауэрских принцев, а от них переходит на историю Ричарда вообще. Медсестры, друзья и знакомые снабжают его остатками своих школьных знаний по истории Англии, книгами и под конец уже находится более серьезный помощник, который наводит настоящие справки в архивах и читает хроники. Так постепенно среди однообразных больничных дел проступают очертания настоящей биографии Ричарда III и окружающих его людей, а также их характеров и мотивов. В конце следователь не просто приходит к уверенному и обоснованному выводу о невиновности Ричарда III в гибели принцев, но и так же уверенно возлагает эту вину на нового короля-завоевателя Генриха VII, а к Ричарду проникается симпатией сам и вызывает ее у читателя (по крайней мере, у меня).
Несмотря на то, что концепт "Ричард - урод и злодей" все еще, как я понимаю, очень силен в общественном сознании англичан, современные находки его останков подтверждают, что не был он таким уж уродом (да, у него был сколиоз, но не горб, и обе руки вполне работали, иначе вряд ли бы он смог всю жизнь полноценно сражаться), да и злодейства подтверждаются прежде всего теми источниками, авторам которых было выгодно его очернить (то есть соцзаказом того же Генриха, которому надо было обелить себя с сомнительными правами на трон и очернить Ричарда с гораздо более несомненными).
Мне очень понравилось, как сделан роман: автор не переходит к итоговым фактам и свидетельствам сразу, как сделал бы историк, и не рассказывает историю Ричарда в хронологической последовательности. Это очевидно, но скучно. Напротив, она начинает с тех сомнительных вводных, которые вроде бы известны каждому из школы и Шекспира, и постепенно вместе с читателем и героем находит новые источники, сопоставаляет их и делает выводы. А также - что не менее важно - отбрасывает те источники, которые сначала первыми попадаются под руку (в частности, Шекспира и Томаса Мора), а после на проверку оказываются негодными, недопустимыми доказательствами, скажем так. По сути, именно в этом состоит основное действие романа: автор, не вставая с больничной койки, что-то читает или выясняет, сопоставляет, отбрасывает неверные толкования, делает гипотезы, пытается найти недостающие сведения в других источниках - в общем, ведет себя так, как, наверное, ведут себя при классическом полицейском расследовании. Получается интересно, картинка складывается очень стройная и убедительная, и интереснее всего следить за самим процессом работы с материалом и установлением фактов. В этом есть что-то от Шерлока Холмса, только здесь процесс значительно более длинный и мы видим его изнутри, а не только начало и конец.
И Ричард оказался очень привлекательным персонажем, и роман был интересный и какой-то совершенно легкий для чтения, такое незаметное инеллектуальное удовольствие.
Удивительным образом, это детектив, хотя и необычный (я детективы не люблю и обычно не читаю). Современный следователь Скотланд-Ярда лежит в больнице, скучает и решает заняться каким-то историческим преступлением - и случайно выбирает именно тауэрских принцев, а от них переходит на историю Ричарда вообще. Медсестры, друзья и знакомые снабжают его остатками своих школьных знаний по истории Англии, книгами и под конец уже находится более серьезный помощник, который наводит настоящие справки в архивах и читает хроники. Так постепенно среди однообразных больничных дел проступают очертания настоящей биографии Ричарда III и окружающих его людей, а также их характеров и мотивов. В конце следователь не просто приходит к уверенному и обоснованному выводу о невиновности Ричарда III в гибели принцев, но и так же уверенно возлагает эту вину на нового короля-завоевателя Генриха VII, а к Ричарду проникается симпатией сам и вызывает ее у читателя (по крайней мере, у меня).
Несмотря на то, что концепт "Ричард - урод и злодей" все еще, как я понимаю, очень силен в общественном сознании англичан, современные находки его останков подтверждают, что не был он таким уж уродом (да, у него был сколиоз, но не горб, и обе руки вполне работали, иначе вряд ли бы он смог всю жизнь полноценно сражаться), да и злодейства подтверждаются прежде всего теми источниками, авторам которых было выгодно его очернить (то есть соцзаказом того же Генриха, которому надо было обелить себя с сомнительными правами на трон и очернить Ричарда с гораздо более несомненными).
Мне очень понравилось, как сделан роман: автор не переходит к итоговым фактам и свидетельствам сразу, как сделал бы историк, и не рассказывает историю Ричарда в хронологической последовательности. Это очевидно, но скучно. Напротив, она начинает с тех сомнительных вводных, которые вроде бы известны каждому из школы и Шекспира, и постепенно вместе с читателем и героем находит новые источники, сопоставаляет их и делает выводы. А также - что не менее важно - отбрасывает те источники, которые сначала первыми попадаются под руку (в частности, Шекспира и Томаса Мора), а после на проверку оказываются негодными, недопустимыми доказательствами, скажем так. По сути, именно в этом состоит основное действие романа: автор, не вставая с больничной койки, что-то читает или выясняет, сопоставляет, отбрасывает неверные толкования, делает гипотезы, пытается найти недостающие сведения в других источниках - в общем, ведет себя так, как, наверное, ведут себя при классическом полицейском расследовании. Получается интересно, картинка складывается очень стройная и убедительная, и интереснее всего следить за самим процессом работы с материалом и установлением фактов. В этом есть что-то от Шерлока Холмса, только здесь процесс значительно более длинный и мы видим его изнутри, а не только начало и конец.
И Ричард оказался очень привлекательным персонажем, и роман был интересный и какой-то совершенно легкий для чтения, такое незаметное инеллектуальное удовольствие.
пятница, 31 января 2025
Шпенглер & Инститорис
Очень радостная детская книжка, как и многие хорошие, со слоем "для родителей", который детьми, видимо, не считывается (привет портсигару с надписью "Бери и помни"), но добавляет радости взрослым. Жаль, что я не прочитала ее в детстве, но и сейчас отлично прошло. Есть в "Приключении" какая-то безуминка "Суер-выера", притом, что в целом отлично выдерживается вполне себе детский стиль, позволяющий читать это людям лет 10. Мальчик случайно улетает на воздушном шаре, прилетает в разные выдуманные острова и земли и сталивается там с хорошими и не очень людьми.
Лучшее, что есть в "Приключении" - это не столько сюжет (хотя он достаточно безумный, чтобы увлечь), а именно стиль - Треер очень хорошо подбирает слова, так что каждая фраза у него, не будучи специально вычурной, приобретает прекрасный комический оттенок и запоминается. По четкости своих формулировок и ловкости обращения со словом он, действительно, напоминает Коваля. При этом у него много неожиданно комичных находок в части деталей, эпитетов, прочих сюжетных мелочей - из того толка, что при чтении в детстве запоминаешь на всю жизнь.
Странно, что "Редькин" не столь популярен, как того заслуживает. Но если вы ищете радостных и по-настоящему смешных детских книг, подходящих взрослым, это отличный выбор. Большим плюсом является отсутствие какой-либо идеологической прожилки, а также морализаторства.
Лучшее, что есть в "Приключении" - это не столько сюжет (хотя он достаточно безумный, чтобы увлечь), а именно стиль - Треер очень хорошо подбирает слова, так что каждая фраза у него, не будучи специально вычурной, приобретает прекрасный комический оттенок и запоминается. По четкости своих формулировок и ловкости обращения со словом он, действительно, напоминает Коваля. При этом у него много неожиданно комичных находок в части деталей, эпитетов, прочих сюжетных мелочей - из того толка, что при чтении в детстве запоминаешь на всю жизнь.
Странно, что "Редькин" не столь популярен, как того заслуживает. Но если вы ищете радостных и по-настоящему смешных детских книг, подходящих взрослым, это отличный выбор. Большим плюсом является отсутствие какой-либо идеологической прожилки, а также морализаторства.
понедельник, 27 января 2025
Шпенглер & Инститорис
Биография Ходасевича в ЖЗЛ, как я понимаю, едва ли не самая хорошая и полная из имеющихся. Я люблю Ходасевича, и поэзию, и особенно прозу, перечитала у него все доступное и биографией тоже немного интересовалась. Тем не менее, в книге Шубинского много нового, хотя не сказала бы, что это дало мне какой-то новый взгляд на поэта. Учитывая, что у него достаточное количество биографических и недобиографических сочинений, говорящих больше всяких исследований если не о нем самом, то о его времени, окружении и его реакции на это окружение. Имею в виду прежде всего "Некрополь" - на мой взгляд, вообще лучше, что написано о персонажах Серебряного века (не говоря уж о том, что самое смешное).
Шубинский много интересного (и полностью нового, чего не узнаешь никак из самого Ходасевича) рассказывает о его семье, детстве и юности - не то чтобы там скрывались какие-то ужасные или неожиданные бездны, впрочем, но это довольно интересно. В частности, узнала про вопрос национальности: Ходасевич с одной стороны почти поляк, с другой - почти еврей, и хотя он безусловно русский поэт, вопрос и польских, и еврейских корней его всегда интересовал и влиял непосредственно на его творчество: Ходасевич много переводил и польских классиков (знал польский) и еврейских поэтов (по подстрочникам).
Несмотря на эффект, производимый его прозой (особенно поздней), судя по биографии, он не был каким-то особенно желчным циником, во всяком случае, стал им до сих пор не сразу. И не был более приспособлен к практической жизни, чем все его другие полу-бедствующие собратья по литературному процессу в тот период. Жизнь била и задевала его точно так же, как прочих, разве что его взгляд был чуть более трезвым, чем у других, менее восторженным (что не оградило его от того, чтобы радоваться первой революции и еще довольно долгое время быть скорее за большевиков, чем против. В том числе после эмиграции, что очень удивляет. Действительно, после эмиграции Ходасевич еще некоторое время публиковался и получал деньги из страны советов (как и сейчас принято), и только по мере окончательного закрытия занавеса прекратил.
Наиболее детальная и интересная часть книги посвящена околореволюционному периоду. Шубинский описывает не только жизнь самого Ходасевича, но и дает широкую картину литературного процесса в целом, истории того, как символизм постепенно приходил в упадок и сменялся акмеизмом, обэриутами и еще бог знает кем. Учитывая, что Ходасевич неизменно пересекался со всеми представителями соответствующих течений и вообще активно участвовал в литературной жизни, это очень правильный подход. Интересно при это, что как на первых этапах, так и на последних годах жизни, Ходасевич как бы участвовал, но быстро если что отходил в сторонку: с одной стороны, его заслуги и таланты все признавали, с другой, никто не назвал бы его ярым представителем того или иного течения, гуру и лидером какой-то общественной группы, зачинателем чего-то. Это очень привлекательная позиция, держать которую, вероятно, было непросто без известной доли таланта с одной стороны и сдержанности с другой - но при этом не был Ходасевич и никому неизвестным отшельником (как Анненский, который тихо что-то писал в углу, никому неизвестный, и потом оказался постмортем великим поэтом). Вообще Серебряный век, особенно период вокруг революций, было веселое время, когда все со всеми скандалили, выпивали, заводили романы, организовывали журналы, которые существовали один номер от силы, выпускали манифесты и активно дружили против кого-то. Ходасевич немного скандалил, завел всего два романа (с "женой" Брюсова и потом с Берберовой, оба по 10 лет), не выпускал манифестов и если и был зачинателем каких-то коллективных активностей, то быстро переставал. Думаю, ему удалось так сдержаться благодаря сочетанию цинизма с чувством юмора, которое постоянно требовало посмотреть на весь этот хаос со стороны.
С другой стороны, про эмигрантский период жизни Ходасевича Шубинский пишет как-то меньше, куда более ограниченно, чем про советский. Жаль, потому что это было бы мне скорее интересно - как Ходасевич с Берберовой жили на вилле Горького в Сорренто, как - в Париже, как он жил последние годы перед смертью с третьей уже женой. Такое чувство, что Шубинского остро интересовал революционный период в целом, и меньше - все остальное. Это не то чтобы портит книгу, но открывает возможности по ее дополнению. Особенно учитывая, что лучшие прозаические произвдеения Ходасевича, "Некрополь" и "Державин" приходятся именно на этот период. Но из биографии Шубинского может сложиться впечатление, что вот, литературная тусовка распалась, депрессия, упадок таланта, стихов больше не писал - как будто это хуже стихов! Вероятно, мы по-разному оцениваем, и для Шубинского Ходасевич в первую очередь поэт Серебряного века, а для меня - в первую очередь великий критик без привязки к эпохе. Я бы с удовольствием почитала про его парижский период и *новую* литературную тусовку больше - например, про влияние мэтра-Ходасевича на молодого Набокова. (Очень люблю образ поэта Кончеева в "Даре", помилуйте, какая там Зина, вот в кого на самом-то деле беззаветно влюблен рассказчик! И так влюблен, что и читатель влюбляется).
А еще чего мне не хватило у Шубинского: при очень детальном и обширном повествовании, охватывающем множество других лиц и достаточно хорошо описывающем литературный процесс того времени - все же нет складной картинки, что за человек был Ходасевич. Это сложно, согласна, и рисуя такой портрет, биограф рискует погрешить против истины - но все же биографии читают скорее ради этого, чем ради фактов.
Шубинский много интересного (и полностью нового, чего не узнаешь никак из самого Ходасевича) рассказывает о его семье, детстве и юности - не то чтобы там скрывались какие-то ужасные или неожиданные бездны, впрочем, но это довольно интересно. В частности, узнала про вопрос национальности: Ходасевич с одной стороны почти поляк, с другой - почти еврей, и хотя он безусловно русский поэт, вопрос и польских, и еврейских корней его всегда интересовал и влиял непосредственно на его творчество: Ходасевич много переводил и польских классиков (знал польский) и еврейских поэтов (по подстрочникам).
Несмотря на эффект, производимый его прозой (особенно поздней), судя по биографии, он не был каким-то особенно желчным циником, во всяком случае, стал им до сих пор не сразу. И не был более приспособлен к практической жизни, чем все его другие полу-бедствующие собратья по литературному процессу в тот период. Жизнь била и задевала его точно так же, как прочих, разве что его взгляд был чуть более трезвым, чем у других, менее восторженным (что не оградило его от того, чтобы радоваться первой революции и еще довольно долгое время быть скорее за большевиков, чем против. В том числе после эмиграции, что очень удивляет. Действительно, после эмиграции Ходасевич еще некоторое время публиковался и получал деньги из страны советов (как и сейчас принято), и только по мере окончательного закрытия занавеса прекратил.
Наиболее детальная и интересная часть книги посвящена околореволюционному периоду. Шубинский описывает не только жизнь самого Ходасевича, но и дает широкую картину литературного процесса в целом, истории того, как символизм постепенно приходил в упадок и сменялся акмеизмом, обэриутами и еще бог знает кем. Учитывая, что Ходасевич неизменно пересекался со всеми представителями соответствующих течений и вообще активно участвовал в литературной жизни, это очень правильный подход. Интересно при это, что как на первых этапах, так и на последних годах жизни, Ходасевич как бы участвовал, но быстро если что отходил в сторонку: с одной стороны, его заслуги и таланты все признавали, с другой, никто не назвал бы его ярым представителем того или иного течения, гуру и лидером какой-то общественной группы, зачинателем чего-то. Это очень привлекательная позиция, держать которую, вероятно, было непросто без известной доли таланта с одной стороны и сдержанности с другой - но при этом не был Ходасевич и никому неизвестным отшельником (как Анненский, который тихо что-то писал в углу, никому неизвестный, и потом оказался постмортем великим поэтом). Вообще Серебряный век, особенно период вокруг революций, было веселое время, когда все со всеми скандалили, выпивали, заводили романы, организовывали журналы, которые существовали один номер от силы, выпускали манифесты и активно дружили против кого-то. Ходасевич немного скандалил, завел всего два романа (с "женой" Брюсова и потом с Берберовой, оба по 10 лет), не выпускал манифестов и если и был зачинателем каких-то коллективных активностей, то быстро переставал. Думаю, ему удалось так сдержаться благодаря сочетанию цинизма с чувством юмора, которое постоянно требовало посмотреть на весь этот хаос со стороны.
С другой стороны, про эмигрантский период жизни Ходасевича Шубинский пишет как-то меньше, куда более ограниченно, чем про советский. Жаль, потому что это было бы мне скорее интересно - как Ходасевич с Берберовой жили на вилле Горького в Сорренто, как - в Париже, как он жил последние годы перед смертью с третьей уже женой. Такое чувство, что Шубинского остро интересовал революционный период в целом, и меньше - все остальное. Это не то чтобы портит книгу, но открывает возможности по ее дополнению. Особенно учитывая, что лучшие прозаические произвдеения Ходасевича, "Некрополь" и "Державин" приходятся именно на этот период. Но из биографии Шубинского может сложиться впечатление, что вот, литературная тусовка распалась, депрессия, упадок таланта, стихов больше не писал - как будто это хуже стихов! Вероятно, мы по-разному оцениваем, и для Шубинского Ходасевич в первую очередь поэт Серебряного века, а для меня - в первую очередь великий критик без привязки к эпохе. Я бы с удовольствием почитала про его парижский период и *новую* литературную тусовку больше - например, про влияние мэтра-Ходасевича на молодого Набокова. (Очень люблю образ поэта Кончеева в "Даре", помилуйте, какая там Зина, вот в кого на самом-то деле беззаветно влюблен рассказчик! И так влюблен, что и читатель влюбляется).
А еще чего мне не хватило у Шубинского: при очень детальном и обширном повествовании, охватывающем множество других лиц и достаточно хорошо описывающем литературный процесс того времени - все же нет складной картинки, что за человек был Ходасевич. Это сложно, согласна, и рисуя такой портрет, биограф рискует погрешить против истины - но все же биографии читают скорее ради этого, чем ради фактов.
воскресенье, 26 января 2025
Шпенглер & Инститорис

Неплохая маленькая и внятно написанная книжка об основах устройства Евросоюза, модели работы органов и права ЕС. Это не какое-то узкое исследование, а скорее учебное пособие, которое коротко и внятно освещает все необходимые моменты, от того, как избирается Европарламент, до того, в каких случаях Директивы имеют прямое действие. Все, что касается права, я и так знала, но не все про органы ЕС, т.к. не со всеми на практике сталкиваешься. Может быть полезна юристам и вообще всем, кто так или иначе причастен праву ЕС и пытается понять, как эта система устроена.
Можно скачать бесплатно здесь: moodle2.units.it/pluginfile.php/571357/mod_reso...
вторник, 14 января 2025
Шпенглер & Инститорис
Выражение "Земля Санникова" всегда было где-то у меня на подкорке с детства: бабушка и прабабушка были геологи, ездили "в партию" в тайгу и любили читать. А еще у них был, кажется, начальник партии Банников - и про него говорилось, что не "земля Санникова", а "земля Банникова". Странно, что роман Обручева в детстве не попал в мои руки, и только спустя много лет я узнала об этом писателе уже от мужа (кто в детстве запоминает имена писателей?)
"Земля Санникова" построена по той же модели, что и "Плутония": экспедиция энтузиастов (но при этом профессионалов!) отправляется на поиски таинственного острова на севере от Якутии, который то ли существует, то ли не существует. Задача минимум - собственно, доказать или опровергнуть существование этой земли, максимум - посмотреть и описать ее. Если в "Плутонии" наши ученые обнаружили динозавров, то на Земле Санникова - два доисторических племени, стоящих на разных ступенях развития (одно - прям дикари каменного века, второе - гораздо более цивилизованные и контактные). Вместе с племенами встречаются мамонты и прочая ледниковая фауна, которых, в лучших традициях "Плутонии", герои охотно и успешно дегустируют (меня опять берет гордость за русскую науку, герои американского фильма убегали бы от мамонтов с криками).
Установлению контакта с наиболее продвинутым из племен и их изучению и посвящена большая часть книги. По существу, это даже интересней, чем динозавры, учитывая, что у племени имеется и культура, и мифология, и при этом оно несколько сотен лет живет в полной изоляции от окружающего мира, не считая волосатых собратьев, которых они за людей не считают. Члены экспедиции, как, может, часто бывает в таких ситуациях, оказываются на положении полубогов - полупленников - с одной стороны, с ними обращаются даже очень хорошо, с другой - за ними внимательно следят. Как назло, визит героев совпадает с начавшейся вулканической активностью, которая грозит положить конец мирному существованию на острове. Разумеется, постигнуть настоящую причину природных катаклизмов первобытные люди не в состоянии, и логично обвинить в этом чужаков.
Если потрясающие результаты экспедиции на Плутонию сгинули с войной, то не менее потрясающие находки с земли Санникова пропали на ней же - герои едва спасли себя, но потеряли весь научный багаж. Так Обручев второй раз ловко выкрутился, совместив псевдореализм своего повествования с "настоящей" географией.
Я еще подумала: обе истории, помимо чисто фантастических элементов (динозавры, первобытные люди) должны очень греть профессиональных северных исследователей любого толка (геологов, биологов и тд) в прямом смысле слова. Это такая реализация мечты, что после длительного тяжелого пути на север, когда становится все холоднее, погода все ужаснее, день все короче - внезапно обнаруживается какой-то волшебный анклав лета, где тепло и можно отдохнуть. Это как оазис в пустыне, только наоборот. Оба места, и Плутония, и Земля Санникова - такие оазисы, куда добираются только самые стойкие полярные исследователи, преодолевшие ледяные горы и Ледовитый океан на пути в никуда. Не думаю, чтобы Обручев как профессионал мог питать иллюзии относительно возможности существования таких мест - зато они отлично подойдут как красивая метафора цели научного поиска.
"Земля Санникова" построена по той же модели, что и "Плутония": экспедиция энтузиастов (но при этом профессионалов!) отправляется на поиски таинственного острова на севере от Якутии, который то ли существует, то ли не существует. Задача минимум - собственно, доказать или опровергнуть существование этой земли, максимум - посмотреть и описать ее. Если в "Плутонии" наши ученые обнаружили динозавров, то на Земле Санникова - два доисторических племени, стоящих на разных ступенях развития (одно - прям дикари каменного века, второе - гораздо более цивилизованные и контактные). Вместе с племенами встречаются мамонты и прочая ледниковая фауна, которых, в лучших традициях "Плутонии", герои охотно и успешно дегустируют (меня опять берет гордость за русскую науку, герои американского фильма убегали бы от мамонтов с криками).
Установлению контакта с наиболее продвинутым из племен и их изучению и посвящена большая часть книги. По существу, это даже интересней, чем динозавры, учитывая, что у племени имеется и культура, и мифология, и при этом оно несколько сотен лет живет в полной изоляции от окружающего мира, не считая волосатых собратьев, которых они за людей не считают. Члены экспедиции, как, может, часто бывает в таких ситуациях, оказываются на положении полубогов - полупленников - с одной стороны, с ними обращаются даже очень хорошо, с другой - за ними внимательно следят. Как назло, визит героев совпадает с начавшейся вулканической активностью, которая грозит положить конец мирному существованию на острове. Разумеется, постигнуть настоящую причину природных катаклизмов первобытные люди не в состоянии, и логично обвинить в этом чужаков.
Если потрясающие результаты экспедиции на Плутонию сгинули с войной, то не менее потрясающие находки с земли Санникова пропали на ней же - герои едва спасли себя, но потеряли весь научный багаж. Так Обручев второй раз ловко выкрутился, совместив псевдореализм своего повествования с "настоящей" географией.
Я еще подумала: обе истории, помимо чисто фантастических элементов (динозавры, первобытные люди) должны очень греть профессиональных северных исследователей любого толка (геологов, биологов и тд) в прямом смысле слова. Это такая реализация мечты, что после длительного тяжелого пути на север, когда становится все холоднее, погода все ужаснее, день все короче - внезапно обнаруживается какой-то волшебный анклав лета, где тепло и можно отдохнуть. Это как оазис в пустыне, только наоборот. Оба места, и Плутония, и Земля Санникова - такие оазисы, куда добираются только самые стойкие полярные исследователи, преодолевшие ледяные горы и Ледовитый океан на пути в никуда. Не думаю, чтобы Обручев как профессионал мог питать иллюзии относительно возможности существования таких мест - зато они отлично подойдут как красивая метафора цели научного поиска.
воскресенье, 12 января 2025
Шпенглер & Инститорис
Сборник нестрашных страшилок, очень в духе классических детских страшных историй: близкое бытовое окружение (квартира, максимум двор или дача), концепт "нарушения правил", злобные старушки. Все то, чего боялись и чем друг друга пугали в детстве, в общем. Мелкая городская/дачная нечисть. Не пугает, а наоборот, создает веселое ощущение ужастиков, которые вы компанией детей рассказываете друг другу по вечерам, когда вам велели спать, а взрослые в соседней комнате что-нибудь скучно отмечают. Герои (и жертвы) в большинстве рассказов тоже дети. Все рассказы сборника более ли менее выдержаны в одном духе и создают одинаковое впечатление. Мне не было страшно, мне было интересно. Сюжеты/идеи страшилок в целом простые (нет каких-то супер-запутанных предысторий с семейными трагедиями прадедушки), но оригинальные и хорошо поданы. Мне кажется, это идеальный сборник страшных рассказов для среднего школьного возраста, но и взрослым тоже вполне подойдет, с той разницей, что скорее развлечет, чем напугает. Это вопрос вкуса, наверное, но мне именно такого, "близкого" формата страшилки и фантастика вообще как раз очень нравится: когда что-то необычное прорастает из совершенно банальной ситуации, из находки в собственном дворе или даже в собственном шкафу. Прорастает исподволь, не сразу на тебя напрыгивает, но дает достаточно времени на самоспасение, которым, конечно, никто из героев не пользуется. То есть это такой страх кошмарного сна, когда обычная ситуация становится все более и более странной и неприятной, но ты как-то никак не можешь из нее выйти, несмотря на осознаваемое неудобство. И никаких особых ужасов в визуальном плане у Бобылевой нет (что прекрасно) - ни кровищи, ни трупов, ни видимых монстров. Только мелко-бытовое нагнетание и нечисть, которую видно краем глаза. По-моему, это хорошо сделано.
суббота, 11 января 2025
Шпенглер & Инститорис
Интересно, это такая примета авторского стиля, что в конце кто-нибудь обязательно тонет в Ангаре? Если в "Живи и помни" это было очень логичной и по-своему обязательной частью сюжета, то здесь все это "опытные люди неизвестно зачем поперлись в туман и потерялись" выглядит очень вымученно. Впрочем, это единственное событие, которое вообще есть за всю книгу, и то какое-то неуклюжее. А так - повесть по сути лишена сюжета, в ней ничего никуда не движется и не меняется. Автор сразу объявляет, что происходит, и дальше весь текст это детально описывает. История очень простая и вполне бытовая: под Иркутском строят ГЭС, так что часть деревень выше по реке уходит по затопление, в том числе деревня Матёра на острове. Разумеется, население переселяют, никто их не бросил, им дают другое жилье и тд. И разумеется, местные бабуси никуда не хотят переезжать и весь текст ноют на тему "останемся здесь, здесь наши могилы", будто не понимая, что их в действительности ждет, если они останутся.
Собственно, весь рассказ - о последних месяцах деревни и ее обитателях. Как часто бывает с подобными захудалыми деревнями, крепкие активные жители и без понуканий уезжают оттуда, а остаются старушки и всякие местные забулдыги и ненормальные. Разумеется, переезд, особенно с деревенским бытом - это куча проблем, учитывая, что многие необходимые в жизни вещи типа инвентаря не утащишь никак, и бросать жалко. Плюс все еще идет сельскохозяйственный сезон, и поскольку население живет именно сельским хозяйством, покосы и копку картошки никто не отменял. В целом "Прощание с Матёрой" - очень неторопливая повесть просто о жизни и быте этой деревни, в ней нет особо драмы (переезд, конечно, не всех радует, но не является какой-то невероятной трагедией). Распутин показывает местные характеры и местный быт, делает это с любовью и большим знанием, так что все персонажи встречают если не симпатию, то большое понимание. Распутин нескучно пишет о скучных, в общем-то, вещах вроде покоса и прочего сельского быта, неторопливого и страшно консервативного. В его исполнении даже старушки, которые, казалось бы, должны вызывать раздражение своим бессмысленным упрямством, кажутся довольно милыми. На самом деле, это неторопливое и расслабляющее чтение, у Распутина отличный слог, и это доставляет удовольствие даже в отсутствие сюжетного напряжения.
Собственно, весь рассказ - о последних месяцах деревни и ее обитателях. Как часто бывает с подобными захудалыми деревнями, крепкие активные жители и без понуканий уезжают оттуда, а остаются старушки и всякие местные забулдыги и ненормальные. Разумеется, переезд, особенно с деревенским бытом - это куча проблем, учитывая, что многие необходимые в жизни вещи типа инвентаря не утащишь никак, и бросать жалко. Плюс все еще идет сельскохозяйственный сезон, и поскольку население живет именно сельским хозяйством, покосы и копку картошки никто не отменял. В целом "Прощание с Матёрой" - очень неторопливая повесть просто о жизни и быте этой деревни, в ней нет особо драмы (переезд, конечно, не всех радует, но не является какой-то невероятной трагедией). Распутин показывает местные характеры и местный быт, делает это с любовью и большим знанием, так что все персонажи встречают если не симпатию, то большое понимание. Распутин нескучно пишет о скучных, в общем-то, вещах вроде покоса и прочего сельского быта, неторопливого и страшно консервативного. В его исполнении даже старушки, которые, казалось бы, должны вызывать раздражение своим бессмысленным упрямством, кажутся довольно милыми. На самом деле, это неторопливое и расслабляющее чтение, у Распутина отличный слог, и это доставляет удовольствие даже в отсутствие сюжетного напряжения.
Шпенглер & Инститорис
История Монцкарро Меркатто и того, как она выбилась из грязи в князи в самом прямом смысле, а заодно - путеводитель по городам земного круга, кроме Адуи, про которую и так всем известно. Модель романа простая, но интересная: некто Меркатто, о которой мы только потом из "Эпохи безумия" узнаем, какая она страшная злодейка, едва выжила после того, как ее предал и попытался убить родной наниматель, герцог Талига, у которого она служила на не последней должности. Дама потеряла брата, и ее изрядно покалечили, чудом что не убили, и вся последующая история сводится к тому, что она мстит всем причастным к этому. На удивление шорт-лист этих людей невелик, и они очень удобно расположены каждый в своем маленьком государстве Союза, так что по мере кровавого путешествия героини читатель заодно может осмотреть достопримечательности и проникнуться местным колоритом. Для мести героиня набирает зондер-команду, очень кинематографичную, не просто громил, а каждый со своими уникальными способностями. Варианты, как именно Меркатто добирается до своих жертв, тоже очень разнообразны, никто не умирает одинаково в скучных обстоятельствах, например, от удара ножом в переулке. Мне лично больше всего понравилсь, как герои нарядились клоунами в борделе, а потом устроили там пожар. То есть, конечно, весь роман - это Голливуд и отчасти даже Марвел, но кое-где случайно проскакивает Феллини.
Весь роман подчеркивается, какая героиня бедная калека и страдает, что не мешает ей успешно драться со здоровыми мужчинами-профессионалами, а в конце еще и забеременеть (к "Эпохе безумия" она уже благополучно родила). Поэтому в страдания героини не слишком верится, особенно учитывая, что один настоящий калека на этой сцене - Глокта - уже показан, и он ничего такого не может.
В целом роман просится на экранизацию, такая фэнтези-версия "Убить Билла" бы получилась, но описанным выше сюжетом все и исчерпывается. Да, написано интересно, команда забавная, но в начале уже понимаешь, как будет развиваться действие и какой будет конец. То есть, с одной стороны, автор ничем не интригует нас в плане сюжета, а с другой - и личность Меркатто - опять же, в сравнении с Глоктой - оказывается какой-то очень поверхностной. Не женщина, а функция мести, которая ни о чем особо не рефлексирует и сама по себе, в отрыве от ежеминутного действия, интереса не представляет. Даже остальные члены команды как-то более оригинальны с точки зрения личных качеств и характера, особенно мне понравился отравитель с комплексом неполноценности.
Очень вычурные способы добраться до жертв и разобраться с ними выглядят местами сильно натянуто, а финальный аккорд, когда благодаря тому же незадачливому отравителю Меркатто случайно выживает единственная в своем "кругу равных" - вообще дикий рояль из кустов. Но с другой стороны, если бы всех чисто и скучно убили или, напротив, если бы команда мстителей на чем-то засыпалась, что более вероятно, и романа бы не вышло. И все-таки один момент меня напрягает даже по натянутой логике Аберкромби: около герцога Орсо периодически мелькает Йору Сульфур, и он явно мог бы сто раз вмешаться и изменить расклад полностью, но не делает этого. Загадочный супер-убийца Шенк и его отношения с неназванным Байазом гораздо более интересны, чем все, что нам показали в тексте.
В целом - добротно и не без юмора сделанное мочилово в разнообразных декорациях Земного круга, но не вызывающее восторга ни особо захватывающим сюжетом (который и так сразу понятен), ни глубиной персонажей (которой нет).
Весь роман подчеркивается, какая героиня бедная калека и страдает, что не мешает ей успешно драться со здоровыми мужчинами-профессионалами, а в конце еще и забеременеть (к "Эпохе безумия" она уже благополучно родила). Поэтому в страдания героини не слишком верится, особенно учитывая, что один настоящий калека на этой сцене - Глокта - уже показан, и он ничего такого не может.
В целом роман просится на экранизацию, такая фэнтези-версия "Убить Билла" бы получилась, но описанным выше сюжетом все и исчерпывается. Да, написано интересно, команда забавная, но в начале уже понимаешь, как будет развиваться действие и какой будет конец. То есть, с одной стороны, автор ничем не интригует нас в плане сюжета, а с другой - и личность Меркатто - опять же, в сравнении с Глоктой - оказывается какой-то очень поверхностной. Не женщина, а функция мести, которая ни о чем особо не рефлексирует и сама по себе, в отрыве от ежеминутного действия, интереса не представляет. Даже остальные члены команды как-то более оригинальны с точки зрения личных качеств и характера, особенно мне понравился отравитель с комплексом неполноценности.
Очень вычурные способы добраться до жертв и разобраться с ними выглядят местами сильно натянуто, а финальный аккорд, когда благодаря тому же незадачливому отравителю Меркатто случайно выживает единственная в своем "кругу равных" - вообще дикий рояль из кустов. Но с другой стороны, если бы всех чисто и скучно убили или, напротив, если бы команда мстителей на чем-то засыпалась, что более вероятно, и романа бы не вышло. И все-таки один момент меня напрягает даже по натянутой логике Аберкромби: около герцога Орсо периодически мелькает Йору Сульфур, и он явно мог бы сто раз вмешаться и изменить расклад полностью, но не делает этого. Загадочный супер-убийца Шенк и его отношения с неназванным Байазом гораздо более интересны, чем все, что нам показали в тексте.
В целом - добротно и не без юмора сделанное мочилово в разнообразных декорациях Земного круга, но не вызывающее восторга ни особо захватывающим сюжетом (который и так сразу понятен), ни глубиной персонажей (которой нет).
суббота, 28 декабря 2024
Шпенглер & Инститорис
Много лет назад я читала роман Кэндзабуро Оэ "Опоздавшая молодежь" и испытывала ужасно раздражение не только от того, что он был страшно скучным, но прежде всего - от самого посыла. Опоздавшая молодежь - это то поколение, которое во время Второй мировой было слишком маленьким, чтобы принять участие в войне и, конечно, героически погибнуть, зато они хлебнули послевоенной американской оккупации, последующего преклонения перед всем американским и прочих неприятностей, которые ждали побежденную нацию (не самых ужасных). И весь пафос романа про то, что вот она несчастная, эта молодежь, а была бы на несколько лет старше, могли бы героически погибнуть пилотами-камикадзе, так клево же! На сравнении с европейским "потерянным поколением", юность которых пришлась на Первую мировую, а зрелость - на Вторую, сожаление о поколении, росшем в мирное время, каким бы оно ни было, кажется каким-то диким цинизмом человека, который не знает, о чем говорит.
Однако книга Морриса подтверждает обратное: да, знает, и это правда такая странная идеология, кажущаяся дикой человеку, воспитанному в христианской традиции признания ценности каждой отдельной жизни. Исследование Морриса подсвечивает совершенно противоположный концепт в японской культуре на протяжении всей истории ее развития: тот факт, что героями и великими личностями история Японии многократно признавала не просто людей, потерпевших поражение и погибнувших на выбранном пути, но прямо скажем, сделавших это из бессмысленного упрямства. То есть не "пусть я умер, но не зря", а именно что "героически умер, и все зря" или даже и стало только хуже, и совсем закопал дело, ради которого боролся, и был официально объявлен предателем вне закона. Это как если бы СССР не распался, "врагов народа" не реабилитировали, но наряду с советской идеологией на культурном уровне признавалось бы геройство этих людей, бессмысленно погибнувших за Белых, скажем. Притом, что герои Морриса преимущественно кончали свою жизнь именно как враги государства - по крайней мере, власть предержащих в тот момент. И возвеличивали их вовсе не потому, что спустя время власть сменилась и маятник качнулся в другую сторону, а их былые сторонники вышли из тюрем и подполья - нет, это делала все та же уничтожившая их официальная власть и далее народная память. То есть сам по себе героизм их гибели прекрасно уживался с противоположной идеологией, более того, даже в какой-то мере подпитывался противоречием этой идеологии - не как вызов ей, а как крайняя форма бессмысленной жертвы.
Моррис рассказывает десять историй о таких героях, девять из которых посвящены конкретным личностям, начиная с древнейших времен (эпохи Хэйан) и вплоть до 19 века, а последняя - японским пилотам-камикадзе времен Второй мировой. Понятно, что применительно к персонажам, скажем, эпохи войны Тайра и Минамото источники несколько ограничены, однако их хватает, чтобы создать разностороннюю картину событий. Приятно, что Моррис не дает собственной оценки, кто тут плохой, а кто хороший, а, с одной стороны, фиксирует исторические факты, а с другой - то, как эти факты трансформировались в легендах, культуре и литературе, чтобы собрать образ героя, о котором японским детям рассказывают в школе. Такую ценную книгу о Японии с таким взглядом мог написать только образованный иностранец, с одной стороны, в достаточной мере знакомый с японской историей и культурой, а с другой - носитель совсем других ценностей, рефлексирующий о различии этих ценностей. Тот факт, что Моррис не просто выдвинул некую общую идею об особенностях японского подхода к "героизации" персонажей, но подкрепил ее очень детальными примерами из всех истории Японии, практически на протяжении 10 веков. Каждая из глав книги посвящена одному такому герою и обстоятельно (насколько можно реконструировать) описывает весь ход событий, начиная с детства героя и предпосылок развития противостояния и заканчивая его битвой и последующим восприятием его личности, становлением той самой посмертной славы. Моррис подчеркивает, что в японской культуре особо ценится такое качество как "искренность" (которое лично я бы скорее назвала упрямством) - трагический герой упорно идет к своей цели / следует своим ценностям, несмотря на то, что неуспех на этом пути становится ясен задолго до развязки, и ему дается достаточно возможностей с него свернуть, но они все игнорируются. Более того, именно поражение как раз и придает ему значимости, а вот те персонажи, которые выигрывали соответствующиее противостояния, добивались или оставались у власти и добивались по итогам каких-то реальных целей - их культурная интерпретация как раз делает злодеями. Моррис неоднократно это подчеркивает, что в Японии героем становится вожак подавленного бунта, который не принес стране ничего, кроме крови, а вовсе не сегун-реформатор, умело построивший политическую карьеру и принесший на своем поприще практическую пользу стране.
Крайнее свое проявление этот феномен находит в летчиках-камикадзе - и дело не в самоубийственной тактике и отсутствии жалости к молодым людям, которые радостно, как бараны, шли на убой, когда "партия сказала надо". Дело в том, что, по сообщениям Морриса, их гибель была преимущественно бессмысленной, тактика камикадзе - ужасно неэффективной т.зр. результата, и военное руководство это прекрасно осознавало. Но все именно что исходили их парадигмы, что бессмысленная смерть во славу отечества, даже если она не принесла врагу никакого урона, - едва ли не лучшее, что может сделать молодой человек 20 лет в своей жизни. И от желающих стать камикадзе не было отбоя, а объявленная императором капитуляция после бомбардировки Хиросимы разрушила их мечты и едва ли не обессмыслила остальную жизнь.
Однако книга Морриса подтверждает обратное: да, знает, и это правда такая странная идеология, кажущаяся дикой человеку, воспитанному в христианской традиции признания ценности каждой отдельной жизни. Исследование Морриса подсвечивает совершенно противоположный концепт в японской культуре на протяжении всей истории ее развития: тот факт, что героями и великими личностями история Японии многократно признавала не просто людей, потерпевших поражение и погибнувших на выбранном пути, но прямо скажем, сделавших это из бессмысленного упрямства. То есть не "пусть я умер, но не зря", а именно что "героически умер, и все зря" или даже и стало только хуже, и совсем закопал дело, ради которого боролся, и был официально объявлен предателем вне закона. Это как если бы СССР не распался, "врагов народа" не реабилитировали, но наряду с советской идеологией на культурном уровне признавалось бы геройство этих людей, бессмысленно погибнувших за Белых, скажем. Притом, что герои Морриса преимущественно кончали свою жизнь именно как враги государства - по крайней мере, власть предержащих в тот момент. И возвеличивали их вовсе не потому, что спустя время власть сменилась и маятник качнулся в другую сторону, а их былые сторонники вышли из тюрем и подполья - нет, это делала все та же уничтожившая их официальная власть и далее народная память. То есть сам по себе героизм их гибели прекрасно уживался с противоположной идеологией, более того, даже в какой-то мере подпитывался противоречием этой идеологии - не как вызов ей, а как крайняя форма бессмысленной жертвы.
Моррис рассказывает десять историй о таких героях, девять из которых посвящены конкретным личностям, начиная с древнейших времен (эпохи Хэйан) и вплоть до 19 века, а последняя - японским пилотам-камикадзе времен Второй мировой. Понятно, что применительно к персонажам, скажем, эпохи войны Тайра и Минамото источники несколько ограничены, однако их хватает, чтобы создать разностороннюю картину событий. Приятно, что Моррис не дает собственной оценки, кто тут плохой, а кто хороший, а, с одной стороны, фиксирует исторические факты, а с другой - то, как эти факты трансформировались в легендах, культуре и литературе, чтобы собрать образ героя, о котором японским детям рассказывают в школе. Такую ценную книгу о Японии с таким взглядом мог написать только образованный иностранец, с одной стороны, в достаточной мере знакомый с японской историей и культурой, а с другой - носитель совсем других ценностей, рефлексирующий о различии этих ценностей. Тот факт, что Моррис не просто выдвинул некую общую идею об особенностях японского подхода к "героизации" персонажей, но подкрепил ее очень детальными примерами из всех истории Японии, практически на протяжении 10 веков. Каждая из глав книги посвящена одному такому герою и обстоятельно (насколько можно реконструировать) описывает весь ход событий, начиная с детства героя и предпосылок развития противостояния и заканчивая его битвой и последующим восприятием его личности, становлением той самой посмертной славы. Моррис подчеркивает, что в японской культуре особо ценится такое качество как "искренность" (которое лично я бы скорее назвала упрямством) - трагический герой упорно идет к своей цели / следует своим ценностям, несмотря на то, что неуспех на этом пути становится ясен задолго до развязки, и ему дается достаточно возможностей с него свернуть, но они все игнорируются. Более того, именно поражение как раз и придает ему значимости, а вот те персонажи, которые выигрывали соответствующиее противостояния, добивались или оставались у власти и добивались по итогам каких-то реальных целей - их культурная интерпретация как раз делает злодеями. Моррис неоднократно это подчеркивает, что в Японии героем становится вожак подавленного бунта, который не принес стране ничего, кроме крови, а вовсе не сегун-реформатор, умело построивший политическую карьеру и принесший на своем поприще практическую пользу стране.
Крайнее свое проявление этот феномен находит в летчиках-камикадзе - и дело не в самоубийственной тактике и отсутствии жалости к молодым людям, которые радостно, как бараны, шли на убой, когда "партия сказала надо". Дело в том, что, по сообщениям Морриса, их гибель была преимущественно бессмысленной, тактика камикадзе - ужасно неэффективной т.зр. результата, и военное руководство это прекрасно осознавало. Но все именно что исходили их парадигмы, что бессмысленная смерть во славу отечества, даже если она не принесла врагу никакого урона, - едва ли не лучшее, что может сделать молодой человек 20 лет в своей жизни. И от желающих стать камикадзе не было отбоя, а объявленная императором капитуляция после бомбардировки Хиросимы разрушила их мечты и едва ли не обессмыслила остальную жизнь.
вторник, 24 декабря 2024
Шпенглер & Инститорис

В копилку итальянских книг, прочитанных за этот год. Эту я читала и перечитывала очень внимательно весь декабрь. Какие неожиданные повороты сюжета! Обилие новой итальянской лексики! И при этом емко и по делу, никаких лирических отступлений.
А если серьезно, если черти понесут вас, как меня, сдавать на права в Италии, то отличная полезная книжка.
понедельник, 16 декабря 2024
Шпенглер & Инститорис
Обычный средний Лукьяненко, в целом даже хорошо, потому что я думала, он такого своего обычного среднего уровня, который читаешь как чипсы ешь, давно не пишет. Ничем не захватывает, не лучший из романов, не самая оригинальная идея, но для отдыха вполне подходит. Комичная инопланетянская конспирология: на Землю прилетели инопланетяне и установили свои порядки. Но потом выясняется, что и до них на Земле были уже свои "другие" инопланетяне, которые давно уже установили свои (предыдущие) порядки. А над всем этим еще еще третьи инопланетяне, которые тоже устанавливают свои порядки. Герои-люди, казалось бы, могли бы просто курить в сторонке. Но при этом роман состоит практически целиком из одних драк, причем в формате "а если слон на кита, кто кого заборет": одни люди, мутированные инопланетянами и превратившиеся в таких супергероев типа Венома, сражаются с другими такими же. Моя мутация сильнее твоей, в общем.
Видимо, Лукьяненко поспорил с друзьями, что напишет роман про жидорептилоидов, который издадут и который можно будет даже читать, - и написал таки!
Другой компонент сюжета: прилетевшие инопланетяне что-то оставили, что разбросано по земле и люди это ищут. Что это, они не знают, лично им это не нужно, но находимые штуки отлично меняются на всякие "настоящие" полезные вещи. Ни разу ничего не напоминает.
В общем, жидорептилоиды + АБС + много мочилова. Но читается бодро, как всегда, и по ходу развлекает.
Видимо, Лукьяненко поспорил с друзьями, что напишет роман про жидорептилоидов, который издадут и который можно будет даже читать, - и написал таки!
Другой компонент сюжета: прилетевшие инопланетяне что-то оставили, что разбросано по земле и люди это ищут. Что это, они не знают, лично им это не нужно, но находимые штуки отлично меняются на всякие "настоящие" полезные вещи. Ни разу ничего не напоминает.
В общем, жидорептилоиды + АБС + много мочилова. Но читается бодро, как всегда, и по ходу развлекает.
воскресенье, 08 декабря 2024
Шпенглер & Инститорис
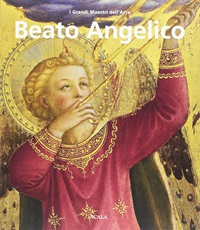
Я, конечно, знала Беато Анджелико, как и все, но как-то мимоходом, и по-настоящему прониклась им только сейчас, когда увидела вживую одно из его "Благовещений" в музее диоцеза в Кортоне. Вот это:

Вживую это выглядит гораздо более потрясающе, чем на иллюстрациях, и вообще прихожу к выводу, что на картины и фрески средневековых мастеров надо смотреть именно вживую, потому что те цвета, которые там были и сохранились, крайне плохо передаются на фото - не говоря уж об обилии мельчайших деталей, которых просто не видно. У Анджелико три очень похожих "Благовещения", но это мне нравится больше всего из-за жестов ангела. На остальных у всех просто сложены лапки на груди, а здесь смотрите, что он делает))
Анджелико родился в конце 14 века и умер в середине 15, действовал в Тоскане, сначала в провинции, потом во Флореции и, наконец, в Риме, где много расписывал Ватикан (видела, но ничего не помню). Современники знали его как фра Джованни из Фьезоле, он рано присоединился к домениканскому ордену и даже сделал некоторую церковную карьеру. Впрочем, о его жизни очень мало что известно, и она датируется больше по датировке его работ в том или ином городе, чем наоборот. В общем виде его передвижения по Италии можно проследить по месту расположения тех или иных работ. Основной объем, как я могу судить, находится в Convento di San Marco во Флоренции, а также изрядная часть в Ватикане, кое-что в Орвьето, кое-что в Кортоне, и еще немного растащено по иностранным музеям. Книга не столько биографическая (что просто невозможно), сколько посвящена описанию его работ, развитию техники, сравнениям с другими хужожниками и тд на протяжении всего жизненного пути. Много отличных иллюстраций, и написано не скучно, что для описания картин вообще говоря большая редкость.
Как и откуда произошло наименование Беато Анджелико, так и не сообщается, я не поняла, известно ли это в принципе.
четверг, 28 ноября 2024
Шпенглер & Инститорис

Книга для аспирантуры, но в целом интересная с точки зрения постижения современного мира. Это такой политико-экономико-юридический анализ - сравнение трех мега-цифровых империй, США, Китая и ЕС. Поскольку я сама занимаюсь сравнительным правоведением ровно в том же направлении, мне суперактуально было, но для простых смертных, конечно, будет слишком много и повторов, и деталей.
Идея в общем простая и довольно очевидная всем, кто уже в этой теме покопался: в мире есть три крупные модели государственного регулирования цифрового бизнеса в широком смысле слова, тон которым задают как раз означенные юрисдикции, а остальным странам остается только присоединиться к той или иной модели. Эти государственные модели конкурируют между собой за мировое влияние, пытаясь потеснить друг друга (или бизнесы из другой юрисдикции), в частности, за счет норм экстерриториального действия, а также торговых ограничений, требований о локализации и уплате налогов от доходов со своих юзеров. США со времен Билла Клинтона проводит политику "лучшее регулирование - отсутствие регулирования", хотя в последнее время все громче звучат голоса за то, чтобы немного прищемить хвост цифровым гигантам, после всяких разоблачений Сноудена и мрачных наблюдений Шошаны Зубофф. ЕС, понятно, везде топит за сверхрегулирование, права человека, ограничение монополий, прозрачность и accountability. Ну а Китай - это модель слияния цифровых гигантов с государством (которую мы отчасти видим и в России), в которой цифровые компании делятся своими данными и в целом способствуют выполнению государственных функций. Для ЕС и особенно для США по экономическим причинам модель Китая вызывает активное неприятие, но с другой стороны, она доказала миру, что для успешного развития вовсе необязательна демократия и карт-бланш бизнесу. Мне очень понравилось сравнение на примере реакций компаний из различных юрисдикций на штрафы регуляторов. Компании США и ЕС, натурально, штрафы оспаривают в местных судах, а еще активно лоббируют против неудобного им регулирования. Крупные цифровые компании Китая не просто не оспаривают штрафы своего регулятора, а еще и в порядке оверкомплаенса делают всякие дополнительные приседания, чтобы удовлетворить государство и сохранить добрую репутацию.
Интересный большой раздел про торговую войну Китая и США - это давно не новость, понятно, но Брэдфорд детально описывает именно историю событий, а также делает неожиданный (особенно для американского автора) вывод о том, что США эту войну проигрывает. Ну если не проигрывает, то по крайней мере очень рискует в будущем уступить первенство Китаю как мировой цифровой державе - и отчасти дело в растущем внутри негативе в отношении производа бигтеха, который государство не пытается контролировать. Зато китайская модель, в которой цифра встает на службу государственным задачам, от самых положительных, типа оптимизации транспортных потоков в городе, до глобальной слежки за гражданами, оказывается привлекательной для многих других стран. США сложно распространить именно свою модель регулирования, поскольку их компании уже контролируют рынок, и никакие компании из других стран, пущенные своим государством в свободное плавание, не смогут их потеснить. Зато если государство проводит политику меркантилизма и защищает внутренний рынок, давая сначала подрасти своим компаниям, потом они оказываются в состоянии конкурировать - по крайней мере, у китайцев так вышло.
В целом мне понравилось, как Брэдфорд выстраивает свой концепт - он кажется в итоге настолько логичным и основанным на множестве конкретных фактов и деталей, будто всегда был тут. Понятно, что про особенности моделей регулирования все, кто этим занимаются, и так знают, но ее обобщения и выводы действительно приводят анализ на новый уровень. Ну и 200 страниц примечаний и куча кейсов тоже очень кстати. За Китай особый респект, про него сложно писать, учитывая недоступность источников в оригинале.
воскресенье, 24 ноября 2024
Шпенглер & Инститорис

Удивительный эффект производит Газданов: я читаю не первый уже его роман, и мне нравится в процессе, и читается очень легко. Проходит какое-то время - и я не помню совершенно ничего, ни героев, ни сюжета - только очень смутное общее впечатление такой прустовщины, с русско-эмигрантской ностальгической ноткой, в которой Россия, которую мы потеряли, приравнивается беззаботному и благополучному детству. В этом романе все точно так, и по сути некая Клэр - это только предлог взрослому человеку погрузиться в воспоиминания о своем детстве и бурной молодости в России вплоть до эмиграции после Революции и Гражданской войны. Детство пусть и не самое волшебное, все же кажется довольно уютным, особенно "домашняя" его часть. В этом плане "Вечер у Клэр" очень сильно напоминает "Дар". Газданов, как и Набоков, тоже примерно ровесник века, неудивительно, что конец личной эпохи для них так совпал с концом эпохи исторической. Но если в "Даре" есть современная герою-повествователю линия, то "Вечер" Газданова посвящен воспоминаниям целиком, и герой так увлекается ими, что, кажется, совсем забывает, что они начались с некой Клэр, и только в конце опоминается, что надо сказать про нее пару слов. В Клэр я не верю, но в остальном детство и юность героя интересны и неожиданно наполнены действием - особенно последние эпизоды участия в войне на стороне белых. Запоминающийся отец героя, рано умерший, - такой же харизматический и исчезнувший персонаж, оставивший после себя ощутимую брешь, как и отец героя из "Дара", знаменитый путешественник. И дело не в знаменитости, а в общем ощущении от сильной и энергичной отцовской фигуры, которая ярко освещала детство обоих героев (при какой-то не слишком заметной и, кажется, сдержанно-равнодушной матери), а потом, внезапно пропав, знаменовала начало конца - причем и детства, и страны. Впрочем, я думаю, эти два романа все уже сравнили без меня.
Газданов все же пишет гораздо более плавно, при прекрасном русском языке у него нет ни капли набоковских претензий. И поэтому несмотря на все сходства в части сюжета и героя, оставляет совершенное другое впечатление. Мне сложно и местами скучно было с Прустом, может, дело в несовпадении ментальности, уж не знаю, но "русского Пруста" Газданова читать одно удовольствие. Редкий случай, когда качество текста оборачивается тем, что он не требует ни малейших усилий, а будто скользит сам, и от него не устаешь.
воскресенье, 27 октября 2024
Шпенглер & Инститорис

Купили эту книжку, когда были в Палермо почти два года назад, и только сейчас добралась. И в капелле Палатина, и во дворце мы тоже были, конечно, но капелла такова, что сколько там времени ни проведи, невозможно качественно обсмотреть все мозаики. Капелла и дворец были созданы при Рождере II, который получил в начале века королевский титул от папы и, таким образом, основал династию. Но автор пишет, что у Рождера и его потомков были претензии не только на то, чтобы быть просто католическими королями под эгидой папства - они активно посматривали в сторону еще вполне живой тогда Византии, и пытались балансировать между католиками и православными, а также мусульманами. В создании мозаик капеллы активно участвовали византийские мастера, что, конечно, и так очевидно и что связывает ее с мозаиками Равенны. Мозаики Палатинской капеллы созданы позднее, в том же 12 веке, и по моим ошущениям, они более яркие за счет общего золотого фона, который создает очень светлое пространство.
Сама книга, признаться, довольно скучная: после краткой истории создания и описания техники она просто подробно описывает все мозаики, сюжеты, и в принципе все, что есть в капелле.
Небольшая часть посвящена королевскому дворцу, но в целом помимо знаменитой залы мозаик, там нет ничего стоящего - несколько стандартных дворцовых интерьеров и много пустых галерей. На протяжении своей истории дворец мало использовался и неоднократно приходил в запустение, а представители династии предпочитали жить в других местах. Но Палатинскую капеллу, конечно, однозначно стоит увидеть.
А вот упоротые животные из залы мозаик, которыми она так знаменита:

пятница, 25 октября 2024
Шпенглер & Инститорис
Роман, как город Брюгге, вызывает одновременно "глубокий восторг и ужасную скуку".
Все-таки никто не умеет так, как Мьевиль, изобретать инопланетян и другие миры. У всех остальных авторов они все похожи на людей, если не внешне, то психологически и общественным устройством. И миры похожи на человеческие. У Мьевиля же всегда или почти всегда срабатывает невероятная фантазия, это какая-то суперспособность создавать чужое, кардинально отличное от человеческого. Совсем другое, не просто "гнвоерк", но гнвоерк с другим социальным устройством, другим способом общения, другой базовой логикой и ценностями. Такой мир ариекаев, на котором люди и немногочисленные другие расы - гости, живущие под куполом с разрешения Хозяев, которые милостиво позволили им тут поселиться, наладить контакт и снабжают базово необходимыми вещами.
Мне нравится, как инопланетяне-ариекаи введены в текст: история начинается глазами героини-девочки, которая в этом мире родилась и выросла, и Хозяева для нее - другие, но при этом привычные, нормальная часть повседневности. Они есть, и они вот такие. Этим объясняется то, что мы так ни разу и не встретим полного портрета ариекая - как не придет в голову описывать в романе, как в принципе выглядят собаки, но может много раз упоминаться, что они виляют хвостом. Мне лично так и не удалось вообразить ничего достаточно складного. Зато вот про культуру ариекаев, и особенно их Язык, базовую составляющую их культуры, читатель узнает все больше на протяжении всего романа, потому что героиня сама начала задаваться вопросом о том, как это устроено, только уже вернувшись на родную планету взрослой. До этого для нее и всех остальных было само собой разумеющимся, что несмотря на близкое соседство и регулярные встречи, общаться с Хозяевами могут только специально избранные люди - Послы. Ребенок не задумывается, как они это делают, и не акцентирует внимание на том, что каждый Посол "един в двух лицах". Ариекаи что-то делают с девочкой для своих целей, что-то непонятное и смутно описанное, но не вредное, зато отличающее ее в их глазах от других людей.
Это самое интересное - начало, а дальше идет очень утомительный многостраничный рассказ о юности и взрослой жизни героини: как она выучилась, уехала с родной планеты, вышла замуж и т.д. Героиня скучна сама себе, и муж ее тоже, и читать про них скучно, и ничего на этом отрезке текста не происходит сколь-нибудь стоящего. Включая длинный период, когда героиня уже возвращается в город, но никакое действие, составляющее основной сюжет романа, еще не началось. Скучность этой части усиливается за счет манеры изложения: это не текущие события, которые происходят прямо сейчас, а формат воспоминаний, в сокращенном, сглаженном виде, с рассуждениями и отступлениями - подходящий стиль для исторических мемуаров, но не лучший для фантастического романа. За этим тягомотным ритмом даже не замечаешь сразу, что наконец в последней трети текста начинается какое-то действие.
Тут наконец раскрывается полностью и уникальность Хозяев как инопланетной расы, особенность их Языка как определителя мировоззрения и мировосприятия. То, что поначалу представляется забавным ксенологическим казусом - вроде того, что ариекаи на своим языке не могут лгать, а выучившие его люди могут так же, как на любом другом, - только приоткрывает завесу над огромной разницей между этими видами, на уровне физиологии, которую не решить обычной дипломатией.
Концепт Языка ариекаев, безусловно, лучшая идея и находка в романе и уникальная в фантастической литературе. Мьевилю удалось создать не просто целую инопланетную расу, но и конфликт, достаточный для интересного сюжета, на базе лингвистических различий, причем речь не о том, что герои друг друга не понимают и начинают понимать (в отличие от Чана и тому подобных историй про контакт). Разные расы давно друг друга понимают, сотрудничают, торгуют,
но не понимают, насколько Язык имеет для них разную ценность и значение в жизни вообще. Даже не смотря на то, что ариекаи со своим языком рождаются, а людей, способных на нем говорить, специально *выводят* - для людей он остается просто еще одним языком, а для ариекаев же - ключевым способом познания мира. Все это герои-люди узнают через конфликт, только когда в этом способе что-то ломается, и в мире наступает глобальная катастрофа, захватившая сначала Хозяев, а потом и гостей.
Честно скажу, внезапное, быстрое и успешное открытие "лекарства" вызывает сомнения с точки зрения достоверности, хотя, конечно, сюжет этого требует, и плох был бы роман, если бы все просто убили всех. Хорошо передана атмосфера хаоса, непонимания, неорганизованности, которая сопутствует разным этапам наступления ариекайской катастрофы, хотя на мой вкус, некоторая интенсивность не помешала бы действию и тут. Из того, что я читала, пожалуй, идеальная "скорость" действия только в "Шраме", а в других романах встречается то же топтание на месте, которое несколько сбивает эффект от невероятного мира и существ.
Все-таки никто не умеет так, как Мьевиль, изобретать инопланетян и другие миры. У всех остальных авторов они все похожи на людей, если не внешне, то психологически и общественным устройством. И миры похожи на человеческие. У Мьевиля же всегда или почти всегда срабатывает невероятная фантазия, это какая-то суперспособность создавать чужое, кардинально отличное от человеческого. Совсем другое, не просто "гнвоерк", но гнвоерк с другим социальным устройством, другим способом общения, другой базовой логикой и ценностями. Такой мир ариекаев, на котором люди и немногочисленные другие расы - гости, живущие под куполом с разрешения Хозяев, которые милостиво позволили им тут поселиться, наладить контакт и снабжают базово необходимыми вещами.
Мне нравится, как инопланетяне-ариекаи введены в текст: история начинается глазами героини-девочки, которая в этом мире родилась и выросла, и Хозяева для нее - другие, но при этом привычные, нормальная часть повседневности. Они есть, и они вот такие. Этим объясняется то, что мы так ни разу и не встретим полного портрета ариекая - как не придет в голову описывать в романе, как в принципе выглядят собаки, но может много раз упоминаться, что они виляют хвостом. Мне лично так и не удалось вообразить ничего достаточно складного. Зато вот про культуру ариекаев, и особенно их Язык, базовую составляющую их культуры, читатель узнает все больше на протяжении всего романа, потому что героиня сама начала задаваться вопросом о том, как это устроено, только уже вернувшись на родную планету взрослой. До этого для нее и всех остальных было само собой разумеющимся, что несмотря на близкое соседство и регулярные встречи, общаться с Хозяевами могут только специально избранные люди - Послы. Ребенок не задумывается, как они это делают, и не акцентирует внимание на том, что каждый Посол "един в двух лицах". Ариекаи что-то делают с девочкой для своих целей, что-то непонятное и смутно описанное, но не вредное, зато отличающее ее в их глазах от других людей.
Это самое интересное - начало, а дальше идет очень утомительный многостраничный рассказ о юности и взрослой жизни героини: как она выучилась, уехала с родной планеты, вышла замуж и т.д. Героиня скучна сама себе, и муж ее тоже, и читать про них скучно, и ничего на этом отрезке текста не происходит сколь-нибудь стоящего. Включая длинный период, когда героиня уже возвращается в город, но никакое действие, составляющее основной сюжет романа, еще не началось. Скучность этой части усиливается за счет манеры изложения: это не текущие события, которые происходят прямо сейчас, а формат воспоминаний, в сокращенном, сглаженном виде, с рассуждениями и отступлениями - подходящий стиль для исторических мемуаров, но не лучший для фантастического романа. За этим тягомотным ритмом даже не замечаешь сразу, что наконец в последней трети текста начинается какое-то действие.
Тут наконец раскрывается полностью и уникальность Хозяев как инопланетной расы, особенность их Языка как определителя мировоззрения и мировосприятия. То, что поначалу представляется забавным ксенологическим казусом - вроде того, что ариекаи на своим языке не могут лгать, а выучившие его люди могут так же, как на любом другом, - только приоткрывает завесу над огромной разницей между этими видами, на уровне физиологии, которую не решить обычной дипломатией.
Концепт Языка ариекаев, безусловно, лучшая идея и находка в романе и уникальная в фантастической литературе. Мьевилю удалось создать не просто целую инопланетную расу, но и конфликт, достаточный для интересного сюжета, на базе лингвистических различий, причем речь не о том, что герои друг друга не понимают и начинают понимать (в отличие от Чана и тому подобных историй про контакт). Разные расы давно друг друга понимают, сотрудничают, торгуют,
но не понимают, насколько Язык имеет для них разную ценность и значение в жизни вообще. Даже не смотря на то, что ариекаи со своим языком рождаются, а людей, способных на нем говорить, специально *выводят* - для людей он остается просто еще одним языком, а для ариекаев же - ключевым способом познания мира. Все это герои-люди узнают через конфликт, только когда в этом способе что-то ломается, и в мире наступает глобальная катастрофа, захватившая сначала Хозяев, а потом и гостей.
Честно скажу, внезапное, быстрое и успешное открытие "лекарства" вызывает сомнения с точки зрения достоверности, хотя, конечно, сюжет этого требует, и плох был бы роман, если бы все просто убили всех. Хорошо передана атмосфера хаоса, непонимания, неорганизованности, которая сопутствует разным этапам наступления ариекайской катастрофы, хотя на мой вкус, некоторая интенсивность не помешала бы действию и тут. Из того, что я читала, пожалуй, идеальная "скорость" действия только в "Шраме", а в других романах встречается то же топтание на месте, которое несколько сбивает эффект от невероятного мира и существ.
воскресенье, 20 октября 2024
Шпенглер & Инститорис

Волшебно-уморительная древнекитайская (IX век) литература. С китайской средневековой литературой, в отличие от японской, я практически не знакома, так что для меня все было в новинку. Книга, собственно, состоит из сделанного А.Б. Старостиной перевода сборника историй Сюй Сюана и большой сопроводительной статьи к нему. А сам сборник - истории, посвященные всяким мистическим явлениям, деятельности духов, местных божеств, вещим снам, нечисти и всему подобному. Это очень странно и большей частью очень смешно. Историйки все маленькие, по одной-несколько страничек, и для русского человека выделяются каким-то особым вывихом сознания, нашей культуре очень чуждым. Сложно даже объяснить, в чем дело, но если там и есть мораль, то это совершенно другая мораль, не такая, как у нас, и несмотря на конфуцианство, поучительного характера историй всего ничего. В основном это просто рассказ о странных событиях, без идеологических выводов. А еще часто, что меня забавляет, в конце истории о странных событиях итоговым пуантом служит либо смерть героя (это еще понятно, кармическое наказание), либо его назначение на какую-то должность (а вот это непонятно, хорошо или плохо, но видимо, для китайцев назначение на должность всегда хорошо). Логическую связь между событием и назначением можно опознать далеко не всегда:
"У Сунь Хань-вэя, командира в цзянаньской императорской гвардии, к конюшне был конь, у которого каждую ночь светилось место над хвостом, будто полыхало огнем. Остальные кони ржали в испуге. Хань-вэй решил, чтоб это оборотень, выхватил меч и отрубил ему голову.
Через несколько месяцев его перевели на должность областного правителя в Лучжоу."
Зато есть постоянно повторяющийся мотив, который для китайца, видимо. является нормой, а меня неизменно восхищает. Это тема бюрократии. Период, когда создавался сборник Сюй Сюаня, был довольно бурный в китайской истории, создавались и рушились царства, происходили всякие военные перевороты, войны и тд. По тексту много раз встречается упоминание "ложного У" (что живо вызывает в памяти "Магазинчик Бо") - государства У, которое было непризнанным, как Абхазия, поэтому его и называли ложным. Но политическая нестабильность, видимо, не слишком повлияла на бюрократическую основу государственного строя, систему назначения и функционирования чиновников, все эти экзамены на чин и восхождение по карьерной лестнице, которое, видимо, является пределом мечтаний для каждого амбициозного китайца. И что еще веселее, все это отражается в потустороннем мире. Очень распространенный сюжет такой: герой как-то случайно погибает, попадает на условный тот свет, где его встречает чиновник. Чиновник сверяется с гроссбухом, выясняет, что произошла ошибка, и герою "не положено" - и отправляет его обратно, и тот оживает. Не знаю, как в вас, а в меня это вселяет большую радость. Где-то что-то организованно! Не ангел с демоном борются за твою душу, а все, что тебе положено, чинно отражено в учете.
Еще не менее прекрасен концепт загробного правосудия не как чего-то само собой разумеющегося, а как обычного судебного процесса. Героя несправедливо обидели, он собирается умирать и говорит домашним "положите мне в гроб побольше бумаги и кистей, я буду жаловаться". В неизвестном живым героям загробном мире, видимо, жалобе дают ход, обидчик героя оказывается наказан в мире реальном. Все очень честно и логично, граница между двумя мирами довольно условная.
Подумала, что наверняка должны быть какие-то исследования про потустороннюю китайскую бюрократию, весь этот неписаный, но очевидный загробный административный кодекс - было бы очень интересно прочитать.
Ну и наконец, есть историйки, которые для меня лично вообще не связаны ни с какой логикой - и для автора, видимо, тоже, в чем он честно признается, что добавляет комизма:
"Один плотник в Цзянькане расколол большое дерево, а в нем оказалось примерно пять цзиней мяса. Оно пахло, как вареная свинина.
Это из тех вещей, что не имеют разумного объяснения."
пятница, 18 октября 2024
Шпенглер & Инститорис
Очередной роман из цикла про Галактического Консула, Константина Кратова. Каждый раз, когда смотрю на датировку книг Филенко, удивляюсь, на самом деле: 90-е и 2000-е, а по ощущениям - как 60-е. Как Стругацкие мира Полудня, в котором галактика комфортна, изведана, подчинена человеческому разуму. У Филенко - не только человеческому. То, что мне больше всего понравилось в первых книгах цикла и остается неизменным - это концепт устоявшегося содружества разных галактических рас, основанный на разуме и сотрудничестве. Есть, конечно, и соперничество, и недопонимание, и прочее, но базис разума и сотрудничества присутствует всегда, более того, его придерживаются все расы. Это очень обнадеживает, конечно, во все времена, когда совершенно одинаковые люди не могут друг с другом договорится. Это даже больше напоминает Эйкумену Ле Гуин - только у Филенко уровень интеграции и интенсивности взаимодействия между инопланетянами гораздо выше, поэтому "правители Эйкумены" не какая-то далекая теория, а вот конкретные герои на сцене.
Поэтому мир Филенко - это мир очень уютный прежде всего. Разумеется, в нем есть локальные конфликты и вызовы - иначе на чем было бы строить сюжет. Но они именно что локальные, и возможны-то только потому, что в силу профессии герой оказывается на рубеже контакта с новыми видами, которым еще только предстоит рассказать, как устроена Вселенная, и уговорить их на сотрудничество. Риск и напряжение есть - но почти во всех случаях оказывается, что причиной было банальное недопонимание, а не чистое зло и агрессия. Автор гуманист и в этом аспекте, и в общем, вполне прав: как известно, не надо объяснять злым умыслом то, что объяснимо глупостью.
Конкретный роман, "Эпицентр", по сути, скорее набор отдельных "контактных" эпизодов из жизни героя, разной степени интересности, и только в последних двух частях появляется полноценный сюжет "нового контакта на новой планете". Это самое интересно, в остальном тоже читабельно, но можно было бы обойтись и без вставного текста, который сюжету ничего не приносит, зато занимает место (как я понимаю, автор кроил роман из повести и добавил по этому поводу всякой "бахромы"). У меня лично наибольшее противление вызывают интерлюдии на тему "разобрался бы ты со своими бабами". Увольте, если я беру фантастику про инопланетян, я хочу почитать фантастику про инопланетян - а вместо этого в половине текста автор подсовывает мне очень медленные и очень скучные истории о том, как непроста личная жизнь героя, которые даже любительницы женских романов вряд ли оценят. Впрочем, этого не так много и это не настолько плохо, чтобы нельзя было поскучать ради интересных новых историй про контакты, так что я и дальше буду его читать.
Поэтому мир Филенко - это мир очень уютный прежде всего. Разумеется, в нем есть локальные конфликты и вызовы - иначе на чем было бы строить сюжет. Но они именно что локальные, и возможны-то только потому, что в силу профессии герой оказывается на рубеже контакта с новыми видами, которым еще только предстоит рассказать, как устроена Вселенная, и уговорить их на сотрудничество. Риск и напряжение есть - но почти во всех случаях оказывается, что причиной было банальное недопонимание, а не чистое зло и агрессия. Автор гуманист и в этом аспекте, и в общем, вполне прав: как известно, не надо объяснять злым умыслом то, что объяснимо глупостью.
Конкретный роман, "Эпицентр", по сути, скорее набор отдельных "контактных" эпизодов из жизни героя, разной степени интересности, и только в последних двух частях появляется полноценный сюжет "нового контакта на новой планете". Это самое интересно, в остальном тоже читабельно, но можно было бы обойтись и без вставного текста, который сюжету ничего не приносит, зато занимает место (как я понимаю, автор кроил роман из повести и добавил по этому поводу всякой "бахромы"). У меня лично наибольшее противление вызывают интерлюдии на тему "разобрался бы ты со своими бабами". Увольте, если я беру фантастику про инопланетян, я хочу почитать фантастику про инопланетян - а вместо этого в половине текста автор подсовывает мне очень медленные и очень скучные истории о том, как непроста личная жизнь героя, которые даже любительницы женских романов вряд ли оценят. Впрочем, этого не так много и это не настолько плохо, чтобы нельзя было поскучать ради интересных новых историй про контакты, так что я и дальше буду его читать.
понедельник, 14 октября 2024
Шпенглер & Инститорис
Так вышло, что вся Алиса Селезнева в детстве прошла мимо меня, и даже кино я не смотрела. Притом, что что-то другое у Булычева читала. Решила наконец восполнить этот пробел и начала вроде бы с самого начала.
"Девочка" - это, собственно, не повесть, а сборник коротких веселых рассказов о разных приключениях маленькой девочки Алисы из будущего. Они действительно рассчитаны на детей, мне сложно судить, но я бы сказала, лет на 5-6, по крайней мере, для меня это тот же формат, что и "Простоквашино". Рассказы очень милые и радостные, фантастические детали не столь важны, сколько общее ощущение счастливого беззаботного детства. И что особенно приятно для любителя именно фантастики - это ощущение безопасного фантастического будущего, в котором есть и другие расы, и инопланетные звери, и результаты неудачных научных экспериментов - но все исключительно милые и ничем не грозящие гиперактивной Алисе. В них нет никакого напряжения, никакой особой интриги, потому что сразу понятно, что все кончится хорошо. Так что это детская литература именно для детей, а не для взрослых. Посмотрим, что дальше будет.
"Девочка" - это, собственно, не повесть, а сборник коротких веселых рассказов о разных приключениях маленькой девочки Алисы из будущего. Они действительно рассчитаны на детей, мне сложно судить, но я бы сказала, лет на 5-6, по крайней мере, для меня это тот же формат, что и "Простоквашино". Рассказы очень милые и радостные, фантастические детали не столь важны, сколько общее ощущение счастливого беззаботного детства. И что особенно приятно для любителя именно фантастики - это ощущение безопасного фантастического будущего, в котором есть и другие расы, и инопланетные звери, и результаты неудачных научных экспериментов - но все исключительно милые и ничем не грозящие гиперактивной Алисе. В них нет никакого напряжения, никакой особой интриги, потому что сразу понятно, что все кончится хорошо. Так что это детская литература именно для детей, а не для взрослых. Посмотрим, что дальше будет.


